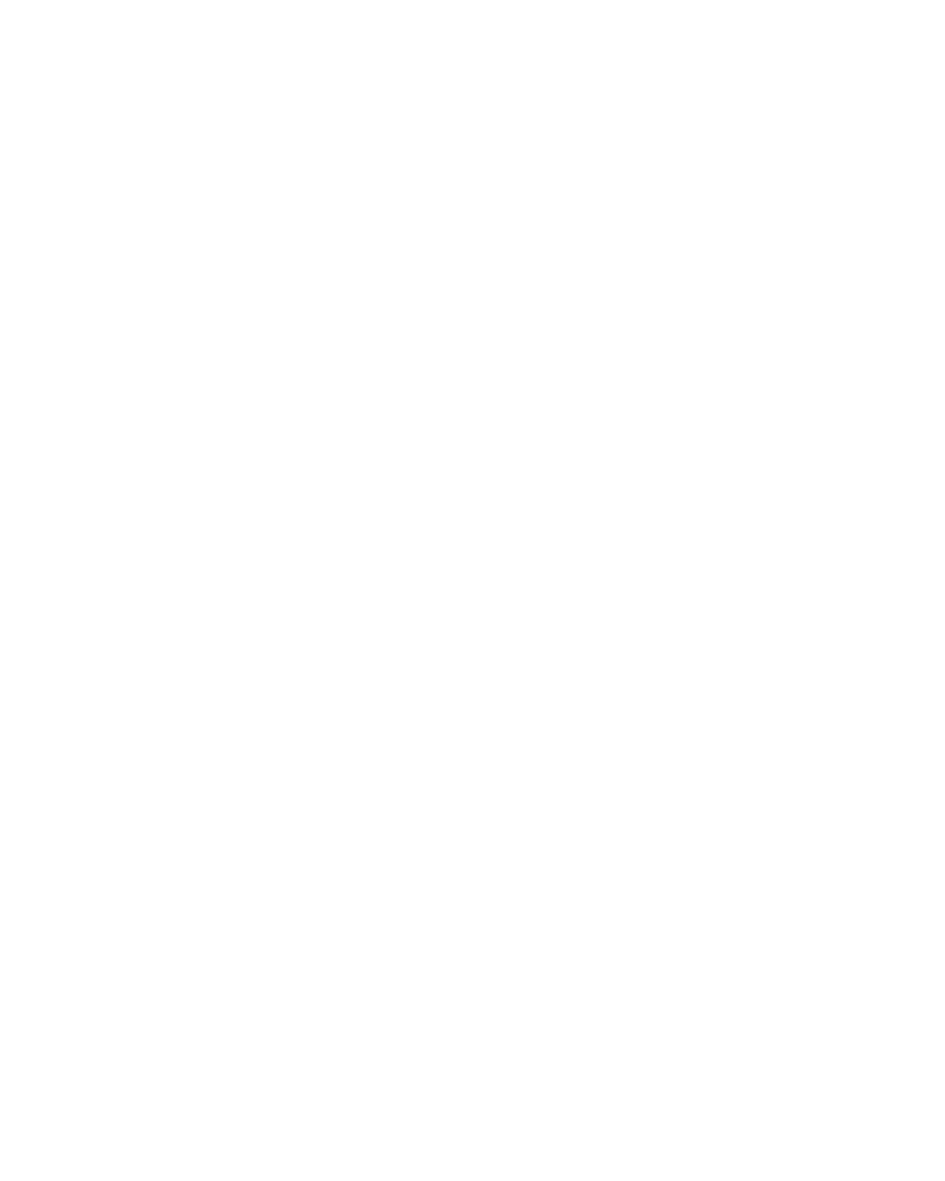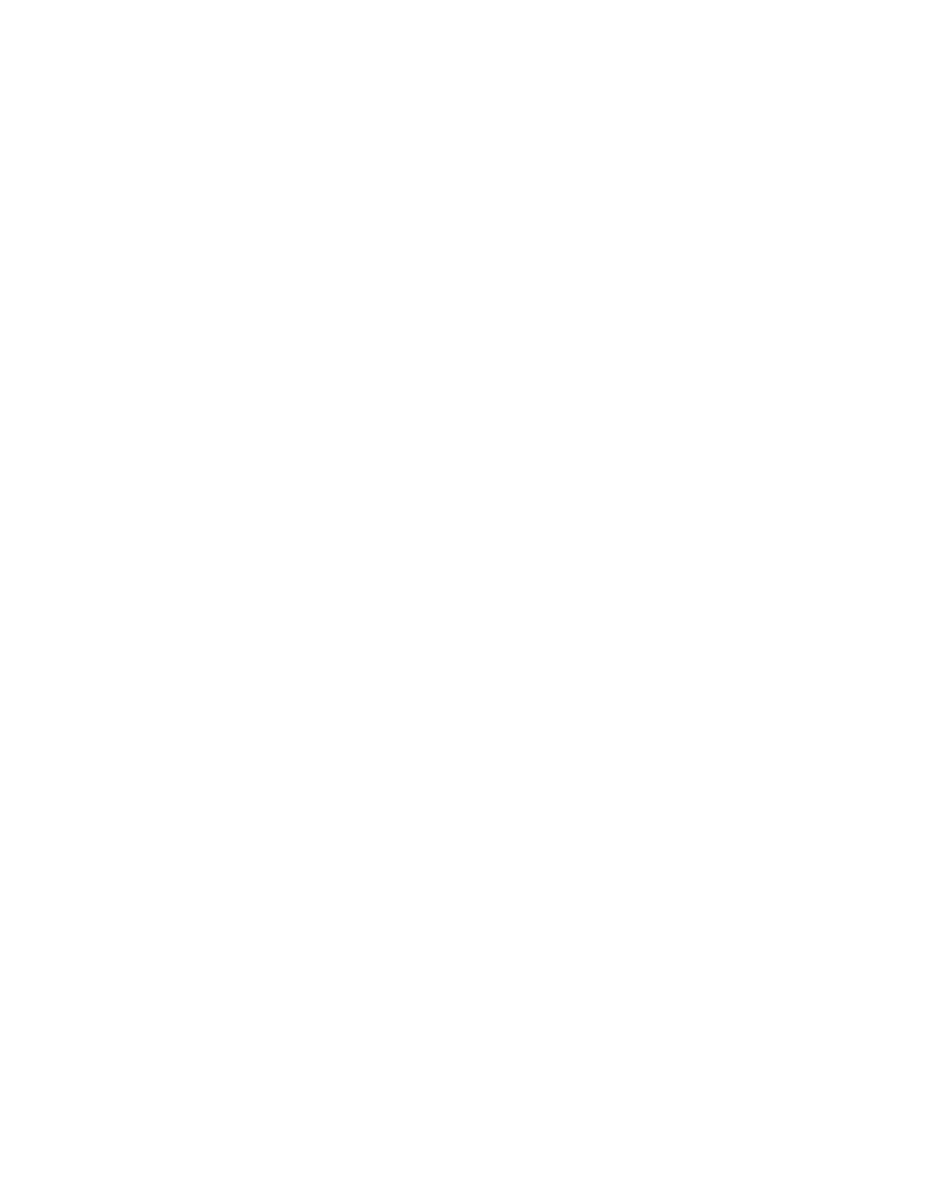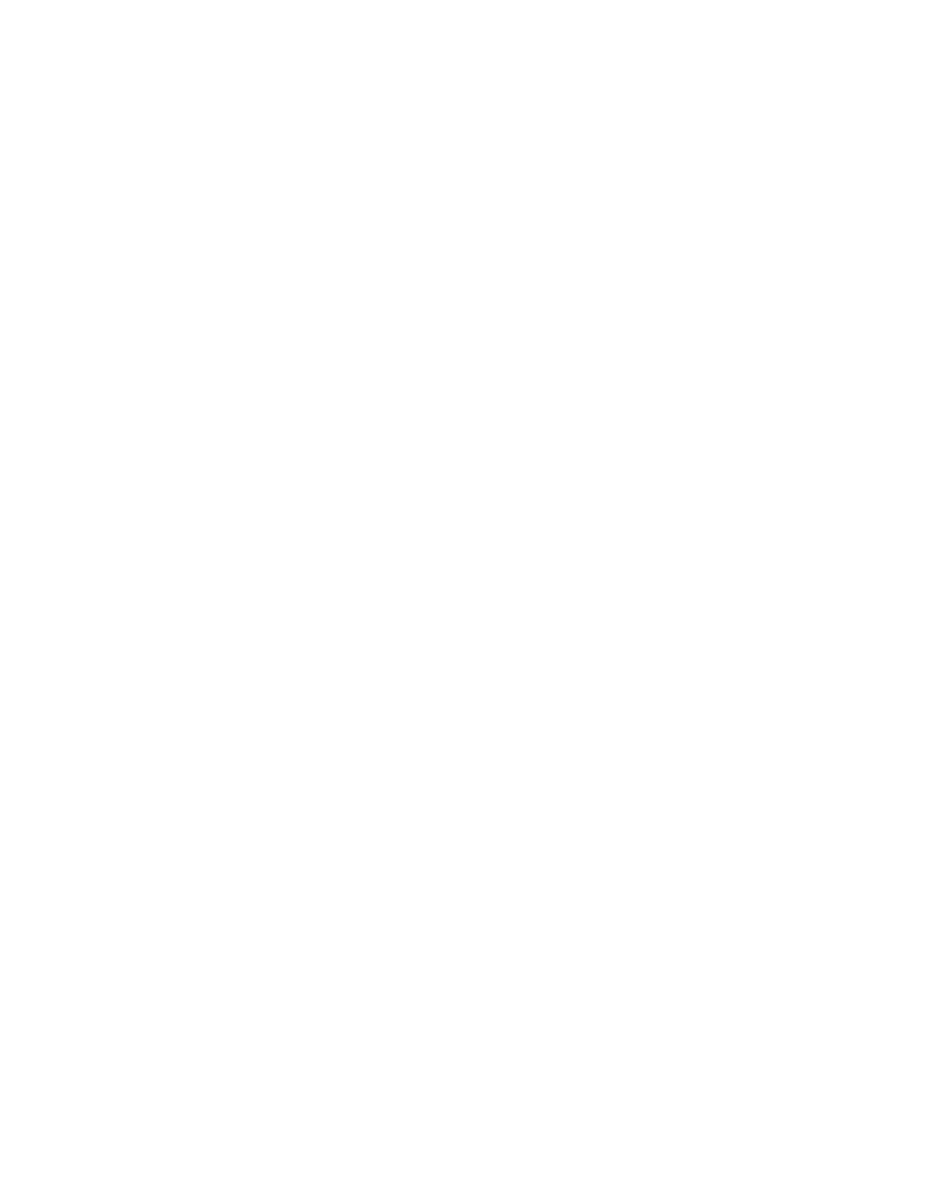Читайте в номере
интервью
Александр Роднянский
ПРЕЗИДЕНТ ОРКФ «КИНОТАВР»
Российское кино сейчас переживает если не золотой век, то золотой год точно: фестивалей для премьер уже не хватает, и призов много. Что происходит?
Мне кажется, сошлись три фактора. Первый: выросло новое поколение более свободных, не скованных внутренними психологическими ограничениями людей. Их воспитывало качественное современное кино, международное и российское. Они понимают, что такое универсальные темы и сюжеты. Они стараются говорить на своем собственном языке о том, что будет понятно в любой точке мира. Именно это поколение сейчас в основном и представляет российский кинематограф за пределами страны на фестивалях.
Второй. Годы развития индустрии привели к росту технологического качества. Кино стало профессиональнее, выше классом по всем параметрам. Оно лучше снято, смонтировано, озвучено, рассказано. То есть первый фактор имеет отношение к тому, кто и как рассказывает, а второй — технический.
Третий фактор — пожалуй, геополитический: интерес к нашей стране повысился. В политическом смысле Россия вызывает тревогу и опасение, в художественном — привлекает и интригует. Многие хотят разобраться, что представляют собой современная Россия и люди, в ней живущие. Что они думают. Какие у них проблемы. Что заставляет их действовать так, а не иначе. Что объединяет их с европейцами и что разъединяет. Фестивали обычно выступают перекрестками напряжений, происходящих во всех странах мира. Поэтому, скажем, иранский или китайский кинематограф привлекают к себе интерес. С нашим происходит то же. Поэтому каждый крупный МКФ сегодня с легкостью отбирает к себе в программу один-два, а то и больше российских фильмов.
Образовался какой-то переизбыток фильмов? Многим хорошим картинам не хватило в этом году крупных фестивалей для премьеры?
Действительно, сейчас у нас редчайшая, уникальная ситуация. Сделано много картин, и среди них большой процент достойных. При отборе на «Кинотавр» даже чисто статистически было больше претендентов, чем обычно: 104 фильма. И несколько очень хороших картин не вошли в программу фестиваля. А ряд фильмов мы с легким сердцем «отдали» для премьер на больших МКФ и не стали им «мешать». Я не лукавлю, когда говорю «с легким сердцем». Я не могу называть картину, ушедшую на Берлинале, но она освободила место в нашей программе для другого очень хорошего фильма. Но это факт: площадки «Кинотавра» и ряда крупнейших международных форумов в этот раз действительно оказалось недостаточно, чтобы показать все, имеющее художественный потенциал и право на то, чтобы обратиться к широкой профессиональной аудитории. Не взялся бы прогнозировать, будет ли ситуация такой же и в следующем году. Все же сейчас мы имеем дело с фильмами, снятыми не за год, а по факту — за два. Но, возможно, пандемия привела в действие внутренние, психологические механизмы многих авторов, побудила их к исследованию человеческих состояний в экстремальных условиях. Поглядим, насколько этот год показательный.
Можно ли сравнить положение России в авторском кино с ситуацией Китая в кино коммерческом? В том смысле, что Китай раньше снял ограничения, получил фору и преимущество по сборам.
Нет, конечно. Формальный успех китайского кино связан с его результатами непосредственно в Китае. Эти фильмы не пересекают границы, и вообще, главная проблема китайского кино в том — и об этом говорят в том числе в самом Китае, — что даже самые кассовые хиты, собравшие 500, а то и 800 млн долларов на родине, не пользуются спросом за пределами страны. Но поскольку в большинстве стран последние два года кинопоказ практически не функционировал, то в общестатистическом учете мировых сборов китайские получились непропорционально велики. Поэтому успех их картин кажется всемирным, хотя он по-прежнему свидетельствует только о внутренних результатах. А вот успех российского авторского кино, напротив, больше обеспечен международными фестивалями и выходом на западных рынках, в Европе, Северной и Латинской Америке, в то время как дома их принимают чаще всего довольно сдержанно.
Мне кажется, сошлись три фактора. Первый: выросло новое поколение более свободных, не скованных внутренними психологическими ограничениями людей. Их воспитывало качественное современное кино, международное и российское. Они понимают, что такое универсальные темы и сюжеты. Они стараются говорить на своем собственном языке о том, что будет понятно в любой точке мира. Именно это поколение сейчас в основном и представляет российский кинематограф за пределами страны на фестивалях.
Второй. Годы развития индустрии привели к росту технологического качества. Кино стало профессиональнее, выше классом по всем параметрам. Оно лучше снято, смонтировано, озвучено, рассказано. То есть первый фактор имеет отношение к тому, кто и как рассказывает, а второй — технический.
Третий фактор — пожалуй, геополитический: интерес к нашей стране повысился. В политическом смысле Россия вызывает тревогу и опасение, в художественном — привлекает и интригует. Многие хотят разобраться, что представляют собой современная Россия и люди, в ней живущие. Что они думают. Какие у них проблемы. Что заставляет их действовать так, а не иначе. Что объединяет их с европейцами и что разъединяет. Фестивали обычно выступают перекрестками напряжений, происходящих во всех странах мира. Поэтому, скажем, иранский или китайский кинематограф привлекают к себе интерес. С нашим происходит то же. Поэтому каждый крупный МКФ сегодня с легкостью отбирает к себе в программу один-два, а то и больше российских фильмов.
Образовался какой-то переизбыток фильмов? Многим хорошим картинам не хватило в этом году крупных фестивалей для премьеры?
Действительно, сейчас у нас редчайшая, уникальная ситуация. Сделано много картин, и среди них большой процент достойных. При отборе на «Кинотавр» даже чисто статистически было больше претендентов, чем обычно: 104 фильма. И несколько очень хороших картин не вошли в программу фестиваля. А ряд фильмов мы с легким сердцем «отдали» для премьер на больших МКФ и не стали им «мешать». Я не лукавлю, когда говорю «с легким сердцем». Я не могу называть картину, ушедшую на Берлинале, но она освободила место в нашей программе для другого очень хорошего фильма. Но это факт: площадки «Кинотавра» и ряда крупнейших международных форумов в этот раз действительно оказалось недостаточно, чтобы показать все, имеющее художественный потенциал и право на то, чтобы обратиться к широкой профессиональной аудитории. Не взялся бы прогнозировать, будет ли ситуация такой же и в следующем году. Все же сейчас мы имеем дело с фильмами, снятыми не за год, а по факту — за два. Но, возможно, пандемия привела в действие внутренние, психологические механизмы многих авторов, побудила их к исследованию человеческих состояний в экстремальных условиях. Поглядим, насколько этот год показательный.
Можно ли сравнить положение России в авторском кино с ситуацией Китая в кино коммерческом? В том смысле, что Китай раньше снял ограничения, получил фору и преимущество по сборам.
Нет, конечно. Формальный успех китайского кино связан с его результатами непосредственно в Китае. Эти фильмы не пересекают границы, и вообще, главная проблема китайского кино в том — и об этом говорят в том числе в самом Китае, — что даже самые кассовые хиты, собравшие 500, а то и 800 млн долларов на родине, не пользуются спросом за пределами страны. Но поскольку в большинстве стран последние два года кинопоказ практически не функционировал, то в общестатистическом учете мировых сборов китайские получились непропорционально велики. Поэтому успех их картин кажется всемирным, хотя он по-прежнему свидетельствует только о внутренних результатах. А вот успех российского авторского кино, напротив, больше обеспечен международными фестивалями и выходом на западных рынках, в Европе, Северной и Латинской Америке, в то время как дома их принимают чаще всего довольно сдержанно.
Читать дальше
Не кажется ли вам, что эти результаты нашего кино связаны с тем, что продюсеры сегодня гораздо лучше понимают, как продвигать российское кино за пределы страны?
Когда я сказал о новом поколении кинематографистов, я имел в виду не только режиссеров и сценаристов, но и продюсеров. Роль последних в успехе авторского кино велика необычайно. И все же ключевую роль в авторском кино играют именно авторы. Но сам факт, что именно эти авторы получают право на высказывание и возможность его осуществить, что их картины привлекают международные арены и выходят в других странах, — заслуга в том числе и продюсеров.
Продюсеры наконец-то стали полноценным классом киноиндустрии в России. Десятилетия советской истории единственным продюсером было государство. В 1990-е появилось несколько пассионариев во главе с Сергеем Михайловичем Сельяновым, которые, несмотря на все обстоятельства, не способствовавшие развитию киноискусства, движимые только своей любовью к кино, в редчайших случаях находившие шансы на реализацию проектов, сумели оказаться причастными к созданию нескольких прекрасных фильмов и не дали угаснуть кинематографу как процессу. С 2000-х годов даже до наших дней многие продюсеры являлись не более чем посредниками между источниками финансирования, прежде всего государством, и авторами. От такого рода людей трудно было ожидать разумной и правильной стратегии проектов и выхода их на международные рынки. Сейчас появились люди, которые являются самостоятельными предпринимателями, обладают творческой экспертизой, эмоционально вкладываются в проекты. В результате складываются творческие альянсы, команды, которые добиваются больших успехов. Многие из этих людей приходят из смежного сегмента телесериалов. Самый очевидный пример — Евгений Никишов и Валерий Федорович, которые, будучи шоураннерами очень успешных сериалов, принесли в кино свою творческую экспертизу и продюсерскую предприимчивость. В итоге — очевидный успех.
Можно ли выделить какие-то специфические запросы зарубежных покупателей к нашему кино? Например, вы недавно заключили сделку с Apple. Что интересует их?
Сделка с Apple касалась сериалов, и она в каком-то смысле беспрецедентная. Потому что она говорит об интересе к российскому контексту и сюжету, о важности русскоязычной аудитории и соответствующего рынка. Сделка предусматривает, правда, создание не только русскоязычных, но и многоязычных проектов, включая англоязычные. Конечно, она свидетельствует об интересе к стране и обстоятельствам ее развития. Что касается жанров, то есть несколько категорий. Понятно, что в первую очередь есть заинтересованность в кинематографе, который мы называем авторским или независимым, и тут на первом плане имена. В России на протяжении десятилетий кинематограф больших режиссеров был главным сегментом для зарубежных продаж. Первым делом любители кино в Европе и США при упоминании России назовут фильмы Тарковского, Сокурова, Звягинцева, Серебренникова. Недавно к ним присоединился Кантемир Балагов. Как только российские авторские фильмы появляются на крупных фестивалях и получают там призы, они сразу оказываются в рубриках престижных изданий в духе «10 современных режиссеров, которых нужно посмотреть» или «10 продюсеров, за которыми надо следить». То есть составляется круг кинематографистов, каждый следующий проект которых вызывает повышенный интерес. В дальнейшем эти авторы естественным образом получают предложения снимать большие международные проекты. Не все соглашаются. Но сам факт, что Кантемир Балагов снял пилот престижного сериала НВО «Одни из нас» с самым успешным в мире шоураннером Крэйгом Мэйзином, а Кирилл Серебренников делает международный проект «Исчезновение Йозефа Менгеле», свидетельствует о том, что к ним не просто относятся с любопытством, а считают признанными художниками и профессионалами мирового уровня. И их участие в любом проекте означает привлечение всеобщего внимания и дополнительные возможности для маркетинга, превращение проекта в событие.
Но есть и другие сегменты. Например, хорошо выполненные картины в жанрах, которые наряду с голливудским аттракционным кино пользуются спросом в кинотеатрах. Как правило, это недорого стоящие, но в случае качественной реализации здорово работающие жанры вроде хорроров. У нас хорроры стали сниматься с достаточной регулярностью и, как ни странно, они значительно лучше продаются за пределы родины, чем многие другие жанры.
Плюс наши отечественные блокбастеры, технологическое качество которых пользуется спросом на рынках, где для них есть место рядом с Голливудом. Они сделаны на серьезном уровне, выглядят как голливудские фильмы стоимостью 50−70 млн долларов, хотя стоят значительно меньше благодаря ряду факторов.
Судя по последним новостям, еще одним сегментом могут стать фильмы на основе русской литературы. Станет ли это золотой жилой?
Это мое частное мнение, но я думаю, что нет. Мы многократно исследовали этот вопрос и поняли, что спрос ограничивается произведениями, условно, из школьной программы. Самое известное — «Анна Каренина», выдержавшая десятки экранизаций. «Война и мир», «Преступление и наказание», в меньшей степени «Мастер и Маргарита», в еще меньшей — «Тихий Дон» и «Доктор Живаго». Думаю, что на этом заканчиваются произведения, известные за пределами хорошо образованного, но довольно узкого сегмента мировой аудитории. Может быть, однажды появятся крупные интернет-платформы, специализирующиеся на адаптации выдающихся литературных произведений, и они сформируют вокруг себя широкую аудиторию. Тогда другие произведения Толстого, Достоевского, Чехова, а еще Лескова или Тургенева будут востребованы. Но пока, скажем, условному Netflix интересно заниматься адаптацией тех произведений, которые известны по умолчанию массовой аудитории.
Когда я сказал о новом поколении кинематографистов, я имел в виду не только режиссеров и сценаристов, но и продюсеров. Роль последних в успехе авторского кино велика необычайно. И все же ключевую роль в авторском кино играют именно авторы. Но сам факт, что именно эти авторы получают право на высказывание и возможность его осуществить, что их картины привлекают международные арены и выходят в других странах, — заслуга в том числе и продюсеров.
Продюсеры наконец-то стали полноценным классом киноиндустрии в России. Десятилетия советской истории единственным продюсером было государство. В 1990-е появилось несколько пассионариев во главе с Сергеем Михайловичем Сельяновым, которые, несмотря на все обстоятельства, не способствовавшие развитию киноискусства, движимые только своей любовью к кино, в редчайших случаях находившие шансы на реализацию проектов, сумели оказаться причастными к созданию нескольких прекрасных фильмов и не дали угаснуть кинематографу как процессу. С 2000-х годов даже до наших дней многие продюсеры являлись не более чем посредниками между источниками финансирования, прежде всего государством, и авторами. От такого рода людей трудно было ожидать разумной и правильной стратегии проектов и выхода их на международные рынки. Сейчас появились люди, которые являются самостоятельными предпринимателями, обладают творческой экспертизой, эмоционально вкладываются в проекты. В результате складываются творческие альянсы, команды, которые добиваются больших успехов. Многие из этих людей приходят из смежного сегмента телесериалов. Самый очевидный пример — Евгений Никишов и Валерий Федорович, которые, будучи шоураннерами очень успешных сериалов, принесли в кино свою творческую экспертизу и продюсерскую предприимчивость. В итоге — очевидный успех.
Можно ли выделить какие-то специфические запросы зарубежных покупателей к нашему кино? Например, вы недавно заключили сделку с Apple. Что интересует их?
Сделка с Apple касалась сериалов, и она в каком-то смысле беспрецедентная. Потому что она говорит об интересе к российскому контексту и сюжету, о важности русскоязычной аудитории и соответствующего рынка. Сделка предусматривает, правда, создание не только русскоязычных, но и многоязычных проектов, включая англоязычные. Конечно, она свидетельствует об интересе к стране и обстоятельствам ее развития. Что касается жанров, то есть несколько категорий. Понятно, что в первую очередь есть заинтересованность в кинематографе, который мы называем авторским или независимым, и тут на первом плане имена. В России на протяжении десятилетий кинематограф больших режиссеров был главным сегментом для зарубежных продаж. Первым делом любители кино в Европе и США при упоминании России назовут фильмы Тарковского, Сокурова, Звягинцева, Серебренникова. Недавно к ним присоединился Кантемир Балагов. Как только российские авторские фильмы появляются на крупных фестивалях и получают там призы, они сразу оказываются в рубриках престижных изданий в духе «10 современных режиссеров, которых нужно посмотреть» или «10 продюсеров, за которыми надо следить». То есть составляется круг кинематографистов, каждый следующий проект которых вызывает повышенный интерес. В дальнейшем эти авторы естественным образом получают предложения снимать большие международные проекты. Не все соглашаются. Но сам факт, что Кантемир Балагов снял пилот престижного сериала НВО «Одни из нас» с самым успешным в мире шоураннером Крэйгом Мэйзином, а Кирилл Серебренников делает международный проект «Исчезновение Йозефа Менгеле», свидетельствует о том, что к ним не просто относятся с любопытством, а считают признанными художниками и профессионалами мирового уровня. И их участие в любом проекте означает привлечение всеобщего внимания и дополнительные возможности для маркетинга, превращение проекта в событие.
Но есть и другие сегменты. Например, хорошо выполненные картины в жанрах, которые наряду с голливудским аттракционным кино пользуются спросом в кинотеатрах. Как правило, это недорого стоящие, но в случае качественной реализации здорово работающие жанры вроде хорроров. У нас хорроры стали сниматься с достаточной регулярностью и, как ни странно, они значительно лучше продаются за пределы родины, чем многие другие жанры.
Плюс наши отечественные блокбастеры, технологическое качество которых пользуется спросом на рынках, где для них есть место рядом с Голливудом. Они сделаны на серьезном уровне, выглядят как голливудские фильмы стоимостью 50−70 млн долларов, хотя стоят значительно меньше благодаря ряду факторов.
Судя по последним новостям, еще одним сегментом могут стать фильмы на основе русской литературы. Станет ли это золотой жилой?
Это мое частное мнение, но я думаю, что нет. Мы многократно исследовали этот вопрос и поняли, что спрос ограничивается произведениями, условно, из школьной программы. Самое известное — «Анна Каренина», выдержавшая десятки экранизаций. «Война и мир», «Преступление и наказание», в меньшей степени «Мастер и Маргарита», в еще меньшей — «Тихий Дон» и «Доктор Живаго». Думаю, что на этом заканчиваются произведения, известные за пределами хорошо образованного, но довольно узкого сегмента мировой аудитории. Может быть, однажды появятся крупные интернет-платформы, специализирующиеся на адаптации выдающихся литературных произведений, и они сформируют вокруг себя широкую аудиторию. Тогда другие произведения Толстого, Достоевского, Чехова, а еще Лескова или Тургенева будут востребованы. Но пока, скажем, условному Netflix интересно заниматься адаптацией тех произведений, которые известны по умолчанию массовой аудитории.
Может быть, программа сериалов превратится во что-то регулярное, в конкурента конкурсной программы
Появление программы сериалов на «Кинотавре» знаменует тревожную тенденцию: если раньше короткий метр был трамплином, то теперь, кажется, и полный метр стал заявкой, позволяющей перейти в сериальное производство. А обычное кино снимать — как хобби, в свободное от работы время.
Я в целом согласен с постановкой вопроса, но я бы не называл это хобби. Полнометражный фильм — это в худшем случае способ заявить о себе громко. Но вообще это возможность высказаться на волнующую авторов тему. Попытаться выступить на территории искусства, не пугаясь острых социально-критических контекстов и сюжетов. Что касается сериалов, то вы правы: это главное медиа нашего времени, самая востребованная часть контента. То, что сегодня драйвует интерес аудитории, вызывает споры и общественные дискуссии. Заставляет о себе говорить и переживать. Сериалы заменили Pulp Fiction и жанровые фильмы, которые долгие годы составляли основное содержание кинотеатрального репертуара. К этому добавляется особая роль сериалов в России, потому что онлайновые платформы стали у нас ключевыми источниками финансирования контента и конкурентами кинематографа. С телеканалами все давно понятно: и целевая аудитория, и контент, которые они производят, и финансирование. А с онлайн-платформами не все ясно даже им самим, они еще в процессе поиска, пробуют себя в разных жанрах. Они острее, свежее. Поэтому на «Кинотавре» мы в этой программе собрали сериалы прежде всего онлайн-платформ. Чтобы прислушаться к их мнению — это сегодня очень любопытно. Они аккумулируют вокруг себя ключевые продюсерские компании, авторов и режиссеров. Именно поэтому сегодня так популярна жизненная траектория режиссеров с постепенным переходом в онлайн-проекты. Платформы, в свою очередь, предпочитают не рисковать, запуская дебютантов. Для них наличие удачных полнометражных фильмов является тем, чем было до недавнего времени наличие удачного короткого метра для продюсеров полнометражных картин.
Как вы считаете, кто лучше «проговаривает время» сегодня — сериалы или фильмы?
Мне кажется, по-прежнему полнометражное кино. В силу наличия в нем ярких имен и постоянно приходящих туда молодых и оригинальных авторов. Здесь гораздо больше тех, кто рискует в жанрах, далеких от желания обязательно удовлетворить интересы массовой аудитории. Много фильмов, которые не ставят перед собой цели стать коммерчески успешными. Их цель — высказывание. И у них есть шанс оказаться востребованными не только в России, но и за ее пределами. Платформы же чаще всего заинтересованы в немедленном успехе, а для них это рост подписки. То есть массовая аудитория должна немедленно отреагировать на появление очередного привлекательного сериала на платформе. Значит, меньше риска. Это все равно гораздо интереснее, чем российское жанровое кино, которое сегодня очень бедное и ограничено двумя-тремя жанрами. Но все равно не так радикально и художественно, как авторское кино.
Каждый год идет разговор о перспективе увеличения площадок «Кинотавра». Есть ли новости?
Перспективы есть. Может быть, число площадок мы не увеличим, но мы вводим новые программы, смотрим, как они развиваются. Может быть, программа сериалов превратится во что-то регулярное, в конкурента конкурсной программы. Тогда можно и площадки расширить. Мы экспериментируем. Мы делали конкурс дебютов, когда их было очень много.
Пока мы проводим фестиваль в Сочи, мы связаны прежде всего со своим главным местом силы — Зимним. Если мы изменим место проведения фестиваля — что время от времени обсуждается, — то, может быть, и количество площадок расширится. Но это связано и с интересом аудитории. Пока фестиваль является местом сбора профессиональной индустрии, площадки ему более-менее хватает. Если в какой-то момент мы почувствуем, что есть мощный запрос от, например, жителей и гостей Сочи, то будем думать. Пока мы его не чувствуем до такой степени. Есть фестивали профессиональные, как Канн и Венеция. Есть Берлин и Роттердам, которые привлекают широкую аудиторию, покупающую билеты. Если мы увидим, что идем в этом направлении, будем делать то же самое.
Традиционно на закрытии «Кинотавра» вручалась премия Гильдии «Слон». Теперь существуют две премии: одна — Гильдии, другая — все тот же «Слон». Какую будут вручать в этот раз? Может, обе?
Это не премия самого «Кинотавра». Мы ждем, что нам солидарное сообщество критиков объявит, какую премию они хотят вручать. И мы точно не вправе и не хотим быть частью обсуждения этой проблемы. Пусть критики определятся, предъявят нам свое решение, а мы обеспечим их возможностью вручить свои награды. «Кинотавр» может прожить и без премии критиков. Мы уважаем критиков до такой степени, что не хотим быть частью дискуссии внутри их сообщества.
«Кинотавр» в этом году, похоже, посвящен Сергею Бодрову. Тут и фильм Открытия, и приз Сергею Сельянову, и отсылки в ряде конкурсных картин к творчеству и эстетике Алексея Балабанова. Согласны с этим?
Я бы сказал, фестиваль проходит под знаком связи с традицией 1990-х. Я бы не стал выделять отдельно Бодрова, героями эпохи были все трое: он, Сельянов и Балабанов. Мне кажется, «Кинотавр» при таком количестве новых и ярких фильмов должен подчеркнуть преемственность развития нашего кино. 1990-е конституировали своих героев. Я очень рад, что приз вручается Сергею Сельянову. Не просто потому, что он был продюсером фильмов Балабанова и Бодрова. Но и потому, что это первый раз, когда мы такой приз вручаем продюсеру. Это признание заслуг людей этой профессии, которые в последние годы являются драйвером развития индустрии и способствуют тому, что реализуются настолько важные для русского кино проекты. Так что мы на этом фестивале, я думаю, все вместе проследим связь российского кино 1990-х с главными кинотрендами современности.
Я в целом согласен с постановкой вопроса, но я бы не называл это хобби. Полнометражный фильм — это в худшем случае способ заявить о себе громко. Но вообще это возможность высказаться на волнующую авторов тему. Попытаться выступить на территории искусства, не пугаясь острых социально-критических контекстов и сюжетов. Что касается сериалов, то вы правы: это главное медиа нашего времени, самая востребованная часть контента. То, что сегодня драйвует интерес аудитории, вызывает споры и общественные дискуссии. Заставляет о себе говорить и переживать. Сериалы заменили Pulp Fiction и жанровые фильмы, которые долгие годы составляли основное содержание кинотеатрального репертуара. К этому добавляется особая роль сериалов в России, потому что онлайновые платформы стали у нас ключевыми источниками финансирования контента и конкурентами кинематографа. С телеканалами все давно понятно: и целевая аудитория, и контент, которые они производят, и финансирование. А с онлайн-платформами не все ясно даже им самим, они еще в процессе поиска, пробуют себя в разных жанрах. Они острее, свежее. Поэтому на «Кинотавре» мы в этой программе собрали сериалы прежде всего онлайн-платформ. Чтобы прислушаться к их мнению — это сегодня очень любопытно. Они аккумулируют вокруг себя ключевые продюсерские компании, авторов и режиссеров. Именно поэтому сегодня так популярна жизненная траектория режиссеров с постепенным переходом в онлайн-проекты. Платформы, в свою очередь, предпочитают не рисковать, запуская дебютантов. Для них наличие удачных полнометражных фильмов является тем, чем было до недавнего времени наличие удачного короткого метра для продюсеров полнометражных картин.
Как вы считаете, кто лучше «проговаривает время» сегодня — сериалы или фильмы?
Мне кажется, по-прежнему полнометражное кино. В силу наличия в нем ярких имен и постоянно приходящих туда молодых и оригинальных авторов. Здесь гораздо больше тех, кто рискует в жанрах, далеких от желания обязательно удовлетворить интересы массовой аудитории. Много фильмов, которые не ставят перед собой цели стать коммерчески успешными. Их цель — высказывание. И у них есть шанс оказаться востребованными не только в России, но и за ее пределами. Платформы же чаще всего заинтересованы в немедленном успехе, а для них это рост подписки. То есть массовая аудитория должна немедленно отреагировать на появление очередного привлекательного сериала на платформе. Значит, меньше риска. Это все равно гораздо интереснее, чем российское жанровое кино, которое сегодня очень бедное и ограничено двумя-тремя жанрами. Но все равно не так радикально и художественно, как авторское кино.
Каждый год идет разговор о перспективе увеличения площадок «Кинотавра». Есть ли новости?
Перспективы есть. Может быть, число площадок мы не увеличим, но мы вводим новые программы, смотрим, как они развиваются. Может быть, программа сериалов превратится во что-то регулярное, в конкурента конкурсной программы. Тогда можно и площадки расширить. Мы экспериментируем. Мы делали конкурс дебютов, когда их было очень много.
Пока мы проводим фестиваль в Сочи, мы связаны прежде всего со своим главным местом силы — Зимним. Если мы изменим место проведения фестиваля — что время от времени обсуждается, — то, может быть, и количество площадок расширится. Но это связано и с интересом аудитории. Пока фестиваль является местом сбора профессиональной индустрии, площадки ему более-менее хватает. Если в какой-то момент мы почувствуем, что есть мощный запрос от, например, жителей и гостей Сочи, то будем думать. Пока мы его не чувствуем до такой степени. Есть фестивали профессиональные, как Канн и Венеция. Есть Берлин и Роттердам, которые привлекают широкую аудиторию, покупающую билеты. Если мы увидим, что идем в этом направлении, будем делать то же самое.
Традиционно на закрытии «Кинотавра» вручалась премия Гильдии «Слон». Теперь существуют две премии: одна — Гильдии, другая — все тот же «Слон». Какую будут вручать в этот раз? Может, обе?
Это не премия самого «Кинотавра». Мы ждем, что нам солидарное сообщество критиков объявит, какую премию они хотят вручать. И мы точно не вправе и не хотим быть частью обсуждения этой проблемы. Пусть критики определятся, предъявят нам свое решение, а мы обеспечим их возможностью вручить свои награды. «Кинотавр» может прожить и без премии критиков. Мы уважаем критиков до такой степени, что не хотим быть частью дискуссии внутри их сообщества.
«Кинотавр» в этом году, похоже, посвящен Сергею Бодрову. Тут и фильм Открытия, и приз Сергею Сельянову, и отсылки в ряде конкурсных картин к творчеству и эстетике Алексея Балабанова. Согласны с этим?
Я бы сказал, фестиваль проходит под знаком связи с традицией 1990-х. Я бы не стал выделять отдельно Бодрова, героями эпохи были все трое: он, Сельянов и Балабанов. Мне кажется, «Кинотавр» при таком количестве новых и ярких фильмов должен подчеркнуть преемственность развития нашего кино. 1990-е конституировали своих героев. Я очень рад, что приз вручается Сергею Сельянову. Не просто потому, что он был продюсером фильмов Балабанова и Бодрова. Но и потому, что это первый раз, когда мы такой приз вручаем продюсеру. Это признание заслуг людей этой профессии, которые в последние годы являются драйвером развития индустрии и способствуют тому, что реализуются настолько важные для русского кино проекты. Так что мы на этом фестивале, я думаю, все вместе проследим связь российского кино 1990-х с главными кинотрендами современности.
интервью
Чулпан Хаматова
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮРИ ОСНОВНОГО КОНКУРСА
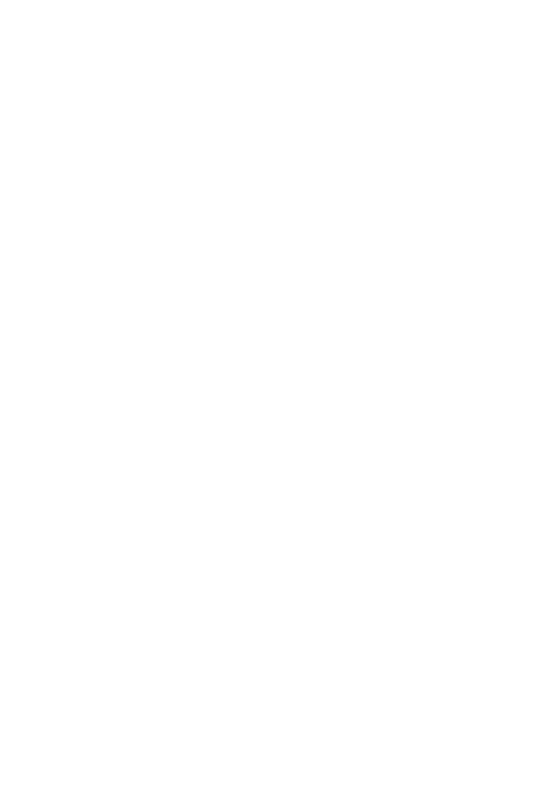
Говорят, вас в кино не заманишь. Как вы в жюри-то попали?
Просто случайность. И терпение Полины Зуевой, которая ждала много лет, а в этом году заранее предложила — и так получилось, что у меня как раз эти дни были свободны. Я их сразу под фестиваль и забронировала. Я очень недообразована в кино, особенно в российском. Недосмотрена, недонаполнена, а «Кинотавр» — это же возможность посмотреть самые свежие фильмы сразу, в одном месте, в таком количестве. Когда я это успею вне фестиваля?
Хотите сказать, что более глобальных целей у вашего председательства в жюри нет?
Мне просто интересно, чем дышит сегодняшний российский кинематограф. Я правда хочу, но не успеваю смотреть, что выходит в течение года. Только собираюсь, как фильм уходит из проката. Рыскать по онлайн-платформам времени нет. В общем, для меня «Кинотавр» — образовательный проект.
Вам как актрисе и как человеку нередко приходилось быть объектом обсуждения и даже осуждения. Какой вы становитесь, оказавшись по другую сторону баррикад?
Мне приходилось бывать в жюри, правда в основном на международных фестивалях. В российском жюри я не участвовала. Но был однажды такой опыт: мой мастер Алексей Владимирович Бородин набирал курс, это был 1996 или 1997 год. В ГИТИСе есть такая практика: на первые испытания приходят не педагоги, а недавние выпускники, чтобы помочь первоначально отсеять абитуриентов. Меня позвали. Так вот, я пропустила в следующий тур всех. Не смогла никому сказать: «Нет, больше не приходите». Это был мой первый и последний случай участия в подобном мероприятии — больше меня не звали. (Смеется.)
Просто случайность. И терпение Полины Зуевой, которая ждала много лет, а в этом году заранее предложила — и так получилось, что у меня как раз эти дни были свободны. Я их сразу под фестиваль и забронировала. Я очень недообразована в кино, особенно в российском. Недосмотрена, недонаполнена, а «Кинотавр» — это же возможность посмотреть самые свежие фильмы сразу, в одном месте, в таком количестве. Когда я это успею вне фестиваля?
Хотите сказать, что более глобальных целей у вашего председательства в жюри нет?
Мне просто интересно, чем дышит сегодняшний российский кинематограф. Я правда хочу, но не успеваю смотреть, что выходит в течение года. Только собираюсь, как фильм уходит из проката. Рыскать по онлайн-платформам времени нет. В общем, для меня «Кинотавр» — образовательный проект.
Вам как актрисе и как человеку нередко приходилось быть объектом обсуждения и даже осуждения. Какой вы становитесь, оказавшись по другую сторону баррикад?
Мне приходилось бывать в жюри, правда в основном на международных фестивалях. В российском жюри я не участвовала. Но был однажды такой опыт: мой мастер Алексей Владимирович Бородин набирал курс, это был 1996 или 1997 год. В ГИТИСе есть такая практика: на первые испытания приходят не педагоги, а недавние выпускники, чтобы помочь первоначально отсеять абитуриентов. Меня позвали. Так вот, я пропустила в следующий тур всех. Не смогла никому сказать: «Нет, больше не приходите». Это был мой первый и последний случай участия в подобном мероприятии — больше меня не звали. (Смеется.)
Читать дальше
Что же вы, с 1990-х сохранили такое добродушие? Не обозлились?
Я сама никогда не относилась серьезно к наградам, рейтингам и конкурсам. Здесь все очень хрупко. Твоя работа в жюри — это совокупность личного вкуса и профессионального опыта. Я обожаю, когда меня поражают и удивляют. Когда вижу, что делают коллеги — актеры, режиссеры, операторы, художники, — для меня самой это становится мощным толчком двигаться вперед.
Вы легко радуетесь увиденному на экране или все-таки придираетесь?
Когда это непрофессионально — начинаю злиться. Не понимаю, зачем кто-то позорит мою профессию и вообще кинематограф. В остальном же я невероятно голодный и приятный зритель. За что, кстати, часто получаю от коллег: начинаем что-то обсуждать — и мне прилетает за мое вечное «а мне понравилось». Ну уж я такая, какая есть.
Вы сказали, что награды вам не важны. Тем не менее давайте вспомним: в 1998 году фильм «Время танцора», где вы дебютировали, получил главный приз «Кинотавра».
Да?
Спустя два года главный приз получил «Лунный папа».
Серьезно?
То есть вы не помните? А мы-то как раз хотели спросить, был ли для вас от этих наград прок.
«Лунный папа» — я помню только то, что его показывали на фестивале. И сценарист картины Ираклий Квирикадзе рассказал мне, что была потрясающая реакция зрителей. Фильм показали на площади, и она вся была забита людьми. Вот это я запомнила, а то, что приз дали, — нет. Конечно, мне об этом тогда сказали, но в памяти не отпечаталось.
Удивительно, что при таком количестве совершенно выдающихся работ в кино приз за лучшую женскую роль вы в Сочи никогда не получали. Разве что в 2002 году вас наградили в зрительском конкурсе за роль в «Львиной доле». Вы как-то объясняете для себя, почему вас все время обходили главные награды? В том числе и в прошлом году.
Да, год назад была «Доктор Лиза». Я думаю, всегда находились более достойные работы, которые членам жюри оказывались ближе. Потом, если бы это была роль, к которой не придерешься, то, может, было бы обидно. Но я не могу сказать, что эта работа была детально инкрустирована моим профессионализмом.
А так бывает, что к роли нельзя придраться?
Да, бывает, и я это вижу, когда смотрю на некоторых своих коллег. Думаю: ого, а я смогла бы так? И не уверена, что смогла бы.
Каким вы запомнили прошлогодний показ «Доктора Лизы»?
Я сидела рядом с Глебом Глинкой — вдовцом Лизы, который, разумеется, очень эмоционально все это воспринимал: понятно, что для него это была очень важная история. Она и для всех нас была важной, но для него еще и личной. Я запомнила тот показ именно благодаря Глебу. Очень рада, что нам удалось показать Лизу настоящей, противоречивой, живой, не такой, какой она была в первоначальном варианте сценария, — стерильной, кошерной, полусвятой. Ко мне после показа подходили люди и говорили: «Можно вас обнять?» Кто-то из молодых актеров сказал мне: «Какой хренью я занимаюсь — надо заниматься помощью». И по этим реакциям, которые фильм пробудил у зрителей, было понятно, что он свою миссию выполнил. Но мы и на съемках делали все, чтобы получился некий триггер, чтобы люди после просмотра почувствовали этот азарт — захотели жить, помогая друг другу. Не было ни одной картины, после которой зрители стремились меня обнять. Так что фильм сработал и с художественной точки зрения, и с финансовой — вы не представляете, какое количество пожертвований получил организованный Лизой фонд «Справедливая помощь». Сколько туда волонтеров пришло! Более того, когда фильм окупился в прокате и стал приносить даже небольшую прибыль, его продюсер Александр Бондарев — и это тоже впервые в моей жизни — передал часть денег в наш фонд «Подари жизнь». Мы его не просили об этом, он сам перевел.
Давайте еще поговорим о практической помощи этого фильма: в нем поднимается вполне конкретная проблема обезболивания онкобольных детей в России. Могли бы вы сказать, что картина Оксаны Карас сдвинула решение этого вопроса хоть на чуть-чуть?
Да. Возможно, вы слышали о недавнем законопроекте, освобождающем врачей от уголовной ответственности за утрату наркопрепаратов. Конечно, это результат работы огромного количества людей, медиков, фондов. Но смею надеяться, что и фильм повлиял — всколыхнул проблему еще раз. Это же круто — в наш век запретов всего на свете поднять такую тему, которая звучит остро и нелицеприятно по отношению к официальному мнению Минздрава и государства.
Я сама никогда не относилась серьезно к наградам, рейтингам и конкурсам. Здесь все очень хрупко. Твоя работа в жюри — это совокупность личного вкуса и профессионального опыта. Я обожаю, когда меня поражают и удивляют. Когда вижу, что делают коллеги — актеры, режиссеры, операторы, художники, — для меня самой это становится мощным толчком двигаться вперед.
Вы легко радуетесь увиденному на экране или все-таки придираетесь?
Когда это непрофессионально — начинаю злиться. Не понимаю, зачем кто-то позорит мою профессию и вообще кинематограф. В остальном же я невероятно голодный и приятный зритель. За что, кстати, часто получаю от коллег: начинаем что-то обсуждать — и мне прилетает за мое вечное «а мне понравилось». Ну уж я такая, какая есть.
Вы сказали, что награды вам не важны. Тем не менее давайте вспомним: в 1998 году фильм «Время танцора», где вы дебютировали, получил главный приз «Кинотавра».
Да?
Спустя два года главный приз получил «Лунный папа».
Серьезно?
То есть вы не помните? А мы-то как раз хотели спросить, был ли для вас от этих наград прок.
«Лунный папа» — я помню только то, что его показывали на фестивале. И сценарист картины Ираклий Квирикадзе рассказал мне, что была потрясающая реакция зрителей. Фильм показали на площади, и она вся была забита людьми. Вот это я запомнила, а то, что приз дали, — нет. Конечно, мне об этом тогда сказали, но в памяти не отпечаталось.
Удивительно, что при таком количестве совершенно выдающихся работ в кино приз за лучшую женскую роль вы в Сочи никогда не получали. Разве что в 2002 году вас наградили в зрительском конкурсе за роль в «Львиной доле». Вы как-то объясняете для себя, почему вас все время обходили главные награды? В том числе и в прошлом году.
Да, год назад была «Доктор Лиза». Я думаю, всегда находились более достойные работы, которые членам жюри оказывались ближе. Потом, если бы это была роль, к которой не придерешься, то, может, было бы обидно. Но я не могу сказать, что эта работа была детально инкрустирована моим профессионализмом.
А так бывает, что к роли нельзя придраться?
Да, бывает, и я это вижу, когда смотрю на некоторых своих коллег. Думаю: ого, а я смогла бы так? И не уверена, что смогла бы.
Каким вы запомнили прошлогодний показ «Доктора Лизы»?
Я сидела рядом с Глебом Глинкой — вдовцом Лизы, который, разумеется, очень эмоционально все это воспринимал: понятно, что для него это была очень важная история. Она и для всех нас была важной, но для него еще и личной. Я запомнила тот показ именно благодаря Глебу. Очень рада, что нам удалось показать Лизу настоящей, противоречивой, живой, не такой, какой она была в первоначальном варианте сценария, — стерильной, кошерной, полусвятой. Ко мне после показа подходили люди и говорили: «Можно вас обнять?» Кто-то из молодых актеров сказал мне: «Какой хренью я занимаюсь — надо заниматься помощью». И по этим реакциям, которые фильм пробудил у зрителей, было понятно, что он свою миссию выполнил. Но мы и на съемках делали все, чтобы получился некий триггер, чтобы люди после просмотра почувствовали этот азарт — захотели жить, помогая друг другу. Не было ни одной картины, после которой зрители стремились меня обнять. Так что фильм сработал и с художественной точки зрения, и с финансовой — вы не представляете, какое количество пожертвований получил организованный Лизой фонд «Справедливая помощь». Сколько туда волонтеров пришло! Более того, когда фильм окупился в прокате и стал приносить даже небольшую прибыль, его продюсер Александр Бондарев — и это тоже впервые в моей жизни — передал часть денег в наш фонд «Подари жизнь». Мы его не просили об этом, он сам перевел.
Давайте еще поговорим о практической помощи этого фильма: в нем поднимается вполне конкретная проблема обезболивания онкобольных детей в России. Могли бы вы сказать, что картина Оксаны Карас сдвинула решение этого вопроса хоть на чуть-чуть?
Да. Возможно, вы слышали о недавнем законопроекте, освобождающем врачей от уголовной ответственности за утрату наркопрепаратов. Конечно, это результат работы огромного количества людей, медиков, фондов. Но смею надеяться, что и фильм повлиял — всколыхнул проблему еще раз. Это же круто — в наш век запретов всего на свете поднять такую тему, которая звучит остро и нелицеприятно по отношению к официальному мнению Минздрава и государства.
Есть темы, которые по-прежнему затрагивать не принято или бесполезно: все равно такое кино зритель не увидит
Как часто перед вами стоит выбор: сняться в проекте не потому, что материал художественно хороший, а потому что он идеологически полезный, может помочь с решением какой-то насущной проблемы?
Отличный вопрос. Вообще, это моя большая проблема. Тема фильма захлестывает больше, чем качество роли. Я начинаю думать о высказывании, о возможности заявить о наболевшем, нежели о роли. И, только уже приступая к роли, понимаю: ой, опять я сделала эту ошибку. Да, это мой восклицательный знак.
Есть ли в российском кино тенденции, которые вы приветствуете?
Да, конечно. Рост числа женщин в кинематографе. Я не назову это феминистической повесткой — скорее, это разговор о равноправии, балансе. Я очень рада за своих коллег, сестер по гендеру, которые осваивают такие профессии, как кинорежиссер и даже оператор.
А вам это правда бросается в глаза? Кажется, что женщины и раньше брались за эти профессии и много работали в кино.
Нет, я это вижу прямо сейчас. Мне предлагают проект, и я читаю: режиссер — женщина, сценарист — женщина, оператор — тоже женщина.
Вам много доводилось работать в европейском кино. Их повестка сильно расходится с нашей?
У них другой уровень свободы — все-таки здесь цензура, самоцензура, все упирается в возможность получить бюджет, а далее — в возможность получить прокат. Все это влияет на свободу высказывания. А свобода высказывания — это и есть свобода художника. Есть темы, которые по-прежнему затрагивать не принято или бесполезно: все равно такое кино зритель не увидит.
Отсутствие свободы в обществе автоматически отражается на творчестве. И коридор тем, по которому может пройти художник, у нас становится все уже — в отличие от Запада. Там тоже есть такие коридоры, но они в основном финансовые. А по осмыслению сегодняшнего дня, прошлого или будущего западные авторы свободнее.
Театр у нас более свободный, чем кино?
Да, потому что театр — маргинальная история. Туда ходят намного меньше людей, чем в кино.
Справедливо сказать, что вы больше вкладываетесь в театр, а кино у вас на втором плане?
Абсолютно справедливо, с театром у меня взаимный роман — в таком периоде, когда бабочки в животе. С кино мы нечасто совпадаем. Большая редкость — встретить сегодня в кино художника, который находился бы в поиске, искал бы смыслы, образы, соединял их и плевать хотел на выработку.
Еще театр — это некое постоянное творчество. Сначала много репетируешь, потом регулярно играешь. Некий активный процесс. А в кино мне, с моим темпераментом, сидеть и ждать очень сложно. Хочется погрузиться в роль, сразу пойти в кадр, а ты сидишь, ждешь. Только сконцентрировался — тебя отвлекли. Потом ты отвлекаешься сам, начинаешь читать книжку. И этот процесс становится дробным, а мне так не нравится. Может, я просто избалована. На съемках моей первой картины — как раз «Время танцора» — режиссер Вадим Абдрашитов вывез всю группу на юг. Снимали в нескольких городах, и это было круглосуточное варево. Мы безостановочно обсуждали следующую сцену, развитие героев, сюжета. За ужином, на завтраке, на площадке, везде. И это была экспедиция. Когда съемки проходят в Москве, меня все отвлекает, множество других дел. А для моей натуры это, видимо, не очень органично. У меня романа с кинематографом не случилось. Я и на экране себя видеть не могу — мне тошно. Сразу замечаю ошибки. В театре ты себя со стороны не видишь. Там проще.
Разве молодежь сейчас так не работает, чтобы круглыми сутками картиной, ролями, смыслами жить? У них другой ритм?
Наверное, работает. Но все-таки актер — он немножко за барьером сидит, на скамейке запасных. Здесь нас, в отличие от того же театра, не зовут придумывать сцену. А мне-то в силу темперамента надо везде сунуть свой нос, сказать, куда камеру поставить, как снимать. Мне говорят: девочка, иди обратно в свой театр, не лезь, ты ничего не понимаешь. Я не обижаюсь, хотя и понимаю, что мой опыт мог бы быть полезен.
Отличный вопрос. Вообще, это моя большая проблема. Тема фильма захлестывает больше, чем качество роли. Я начинаю думать о высказывании, о возможности заявить о наболевшем, нежели о роли. И, только уже приступая к роли, понимаю: ой, опять я сделала эту ошибку. Да, это мой восклицательный знак.
Есть ли в российском кино тенденции, которые вы приветствуете?
Да, конечно. Рост числа женщин в кинематографе. Я не назову это феминистической повесткой — скорее, это разговор о равноправии, балансе. Я очень рада за своих коллег, сестер по гендеру, которые осваивают такие профессии, как кинорежиссер и даже оператор.
А вам это правда бросается в глаза? Кажется, что женщины и раньше брались за эти профессии и много работали в кино.
Нет, я это вижу прямо сейчас. Мне предлагают проект, и я читаю: режиссер — женщина, сценарист — женщина, оператор — тоже женщина.
Вам много доводилось работать в европейском кино. Их повестка сильно расходится с нашей?
У них другой уровень свободы — все-таки здесь цензура, самоцензура, все упирается в возможность получить бюджет, а далее — в возможность получить прокат. Все это влияет на свободу высказывания. А свобода высказывания — это и есть свобода художника. Есть темы, которые по-прежнему затрагивать не принято или бесполезно: все равно такое кино зритель не увидит.
Отсутствие свободы в обществе автоматически отражается на творчестве. И коридор тем, по которому может пройти художник, у нас становится все уже — в отличие от Запада. Там тоже есть такие коридоры, но они в основном финансовые. А по осмыслению сегодняшнего дня, прошлого или будущего западные авторы свободнее.
Театр у нас более свободный, чем кино?
Да, потому что театр — маргинальная история. Туда ходят намного меньше людей, чем в кино.
Справедливо сказать, что вы больше вкладываетесь в театр, а кино у вас на втором плане?
Абсолютно справедливо, с театром у меня взаимный роман — в таком периоде, когда бабочки в животе. С кино мы нечасто совпадаем. Большая редкость — встретить сегодня в кино художника, который находился бы в поиске, искал бы смыслы, образы, соединял их и плевать хотел на выработку.
Еще театр — это некое постоянное творчество. Сначала много репетируешь, потом регулярно играешь. Некий активный процесс. А в кино мне, с моим темпераментом, сидеть и ждать очень сложно. Хочется погрузиться в роль, сразу пойти в кадр, а ты сидишь, ждешь. Только сконцентрировался — тебя отвлекли. Потом ты отвлекаешься сам, начинаешь читать книжку. И этот процесс становится дробным, а мне так не нравится. Может, я просто избалована. На съемках моей первой картины — как раз «Время танцора» — режиссер Вадим Абдрашитов вывез всю группу на юг. Снимали в нескольких городах, и это было круглосуточное варево. Мы безостановочно обсуждали следующую сцену, развитие героев, сюжета. За ужином, на завтраке, на площадке, везде. И это была экспедиция. Когда съемки проходят в Москве, меня все отвлекает, множество других дел. А для моей натуры это, видимо, не очень органично. У меня романа с кинематографом не случилось. Я и на экране себя видеть не могу — мне тошно. Сразу замечаю ошибки. В театре ты себя со стороны не видишь. Там проще.
Разве молодежь сейчас так не работает, чтобы круглыми сутками картиной, ролями, смыслами жить? У них другой ритм?
Наверное, работает. Но все-таки актер — он немножко за барьером сидит, на скамейке запасных. Здесь нас, в отличие от того же театра, не зовут придумывать сцену. А мне-то в силу темперамента надо везде сунуть свой нос, сказать, куда камеру поставить, как снимать. Мне говорят: девочка, иди обратно в свой театр, не лезь, ты ничего не понимаешь. Я не обижаюсь, хотя и понимаю, что мой опыт мог бы быть полезен.
Где уж я точно не готова заниматься благотворительностью и протягивать руку помощи, так это в кино
Давайте про «Петровых в гриппе» поговорим. Критики писали, что фильм в Канне не до конца поняли: западные зрители решили, что это отражение российской действительности, и не смогли отличить фантазии от реальности. А вам как показалось?
Если кино трогает, впечатляет, меняет градус тела только потому, что оно связано с российской действительностью, то это бездарное кино, о нем и говорить не надо. Это некая однодневка, которая к кино отношения не имеет. В этом смысле «Петровы в гриппе» — кино настоящее, талантливое. И абсолютно не важно, где я живу — в Люксембурге, Москве или Вышнем Волочке, — я все равно найду здесь что-то свое. У каждого есть внутренние демоны, собственные фантазии.
Понять, где реальность, а где вымысел, думаю, даже сам Кирилл Серебренников не сможет. Вряд ли такая задача стояла. Наоборот, интереснее размытость этих ощущений. Где наша жизнь настоящая — в наших фантазиях или в нашей повседневности? Поэтому в каждого западного зрителя, который смотрит и любит кино, который готов смотреть сложное кино, который готов, чтобы его сводили с ума, который готов внутренне отвечать на вопросы, в этом кино поднятые, оно попадает. Оно нелегкое и не для каждого. Но неважно, откуда родом зритель этого фильма. У каждого было свое детство — советское или капиталистическое. Это ничего не меняет, потому что интонация, ностальгия, с которой показано это детство, эти страхи, мифологизация новогоднего праздника, универсальны.
Расскажите про свое участие в картинах «Сахаров. Две жизни» и «Байкал. Удивительные приключения Юмы». Как вы в таких проектах оказываетесь?
Все просто: если я получаю удовольствие от прочтения материала и понимаю, что могу быть полезной проекту, могу помочь ему своим медийным именем, привлечь к нему внимание аудитории, то это и для меня огромная честь. Я радуюсь быть полезной в таких начинаниях.
Зовут ли вас в сериалы для онлайн-платформ?
Зовут, но, к сожалению, на сериалы у меня нет времени, потому что я жить хочу. (Смеется.) Я много работаю в театре, мне даже полный метр снять за два-три месяца моей жизни тяжко. А сериал-то и вовсе предполагает бег на длинную дистанцию.
Может ли к вам на «Кинотавре» подойти молодой режиссер и предложить сотрудничество?
Я совершенно открыта, но все зависит от материала. Где уж я точно не готова заниматься благотворительностью и протягивать руку помощи, так это в кино. Но если материал хороший, то почему нет?
Где у вас проходит граница, когда вы говорите: я больше не могу здесь помогать, хочу остановиться? Если иметь в виду помощь и в кино, и в жизни.
Я останавливаться не умею, к сожалению, даже если это будет в ущерб и себе, и семье. Если я в кино что-то пообещала, то буду жалеть, рвать на себе волосы, но помогать до конца. Может, в следующий раз я буду лучше думать, прежде чем давать слово. Благотворительность — отдельная тема. Стоит лишь поставить себя на место этих испуганных и замученных родителей. Бывают случаи, когда я злюсь и говорю себе: зачем, зачем мне это надо было? Зачем я взяла трубку, в это влезла? Но я к этим разговорам с собой уже привыкла, так проще.
фильм открытия
Как возникла идея фильма «Нас других не будет»?
Очень случайно, из застольных разговоров с Евгением Никишовым и Валерием Федоровичем. Я сказал, что у нас с Асей Колодижнер в личном архиве «Кинескопа» хранится очень много материалов и они иногда словно сами просятся быть реализованными. Кто-то из них спросил: «А что у нас есть, например?» Я ответил: «Например, есть много записей Сережи Бодрова и Леши Балабанова». Мы с ними дружили, очень хорошо их знали, как нам кажется. Евгений и Валерий как-то сразу ухватились за это, сказали, что давайте сделаем такой фильм. Мы очень долго отказывались, понимая сложность этой истории, болезненной, связанной с трагедией. Я до сих пор чувствую колоссальную ответственность перед этим проектом. Но все-таки они убедили нас, что сделать такой фильм надо. Мы начали поиск в своих архивах, некоторые записи попадали к нам почти мистическим образом.
Как это?
Ну, скажем, многие материалы, как мне казалось, остались только в расшифровках. Мы в 2000 году много снимали и Сергея, и Алексея, но на кассетах это найти не получилось. Как вы сами понимаете, за 20 с лишним лет архив у «Кинескопа» скопился огромный, он большей частью хранится на бетакамах, но просто физически оставить все не было возможности. И вдруг мы нашли одну кассету с несколькими интервью: они были не просто качественными — их смысл убедил меня в том, что фильм сделать необходимо. Бывает, что материал тебя сам толкает, ты изнутри это ощущаешь. Это были невиденные и неслышанные интервью, простые по сути, но очень насыщенные эмоционально. Понимаете, у каждого интервью есть свой интеллектуальный и эмоциональный вес. И он может быть умножен при помощи монтажа. Мы начали работу очень осторожно, постоянно споря о том, как именно это делать. Нащупывали некую внутреннюю нить, которая бы все объединила. И было много странных, почти мистических совпадений.
А про мистику можно побольше?
Ну, например, случайно найденная вэхаэска, где карандашом нацарапано: «Сергей Бодров». У меня даже нигде не было записано, что она есть. Откуда она вообще взялась? Как смогла уцелеть, ведь мы почти все вэхаэски выбросили? И почему именно вэхаэска? Мы очень боялись ее испортить, потому что у нас, естественно, даже видеомагнитофона не осталось, а тут материал можно было просто повредить неаккуратным использованием — и все. Мы нашли аппаратуру, стали смотреть, и выяснилось, что там записано то самое интервью с Сережей, которое, мы думали, осталось лишь в расшифровках. Потом были еще яркие и неожиданные находки в архиве. И их надо было восстанавливать, чтобы записи VHS смотрелись хорошо на большом экране. Но все это было как раз не самым сложным. Куда больше пришлось поработать над тем, чтобы придать материалу драматургическую форму. В своих фильмах и программах я свожу к минимуму закадровый текст, материал должен говорить сам за себя. И вот когда это происходит, то получается более искренне, это ощущение живого разговора. С людьми, которые живут сейчас рядом с нами, и с теми, кто ушел, но жив в нашем сознании.
Очень случайно, из застольных разговоров с Евгением Никишовым и Валерием Федоровичем. Я сказал, что у нас с Асей Колодижнер в личном архиве «Кинескопа» хранится очень много материалов и они иногда словно сами просятся быть реализованными. Кто-то из них спросил: «А что у нас есть, например?» Я ответил: «Например, есть много записей Сережи Бодрова и Леши Балабанова». Мы с ними дружили, очень хорошо их знали, как нам кажется. Евгений и Валерий как-то сразу ухватились за это, сказали, что давайте сделаем такой фильм. Мы очень долго отказывались, понимая сложность этой истории, болезненной, связанной с трагедией. Я до сих пор чувствую колоссальную ответственность перед этим проектом. Но все-таки они убедили нас, что сделать такой фильм надо. Мы начали поиск в своих архивах, некоторые записи попадали к нам почти мистическим образом.
Как это?
Ну, скажем, многие материалы, как мне казалось, остались только в расшифровках. Мы в 2000 году много снимали и Сергея, и Алексея, но на кассетах это найти не получилось. Как вы сами понимаете, за 20 с лишним лет архив у «Кинескопа» скопился огромный, он большей частью хранится на бетакамах, но просто физически оставить все не было возможности. И вдруг мы нашли одну кассету с несколькими интервью: они были не просто качественными — их смысл убедил меня в том, что фильм сделать необходимо. Бывает, что материал тебя сам толкает, ты изнутри это ощущаешь. Это были невиденные и неслышанные интервью, простые по сути, но очень насыщенные эмоционально. Понимаете, у каждого интервью есть свой интеллектуальный и эмоциональный вес. И он может быть умножен при помощи монтажа. Мы начали работу очень осторожно, постоянно споря о том, как именно это делать. Нащупывали некую внутреннюю нить, которая бы все объединила. И было много странных, почти мистических совпадений.
А про мистику можно побольше?
Ну, например, случайно найденная вэхаэска, где карандашом нацарапано: «Сергей Бодров». У меня даже нигде не было записано, что она есть. Откуда она вообще взялась? Как смогла уцелеть, ведь мы почти все вэхаэски выбросили? И почему именно вэхаэска? Мы очень боялись ее испортить, потому что у нас, естественно, даже видеомагнитофона не осталось, а тут материал можно было просто повредить неаккуратным использованием — и все. Мы нашли аппаратуру, стали смотреть, и выяснилось, что там записано то самое интервью с Сережей, которое, мы думали, осталось лишь в расшифровках. Потом были еще яркие и неожиданные находки в архиве. И их надо было восстанавливать, чтобы записи VHS смотрелись хорошо на большом экране. Но все это было как раз не самым сложным. Куда больше пришлось поработать над тем, чтобы придать материалу драматургическую форму. В своих фильмах и программах я свожу к минимуму закадровый текст, материал должен говорить сам за себя. И вот когда это происходит, то получается более искренне, это ощущение живого разговора. С людьми, которые живут сейчас рядом с нами, и с теми, кто ушел, но жив в нашем сознании.
Читать дальше
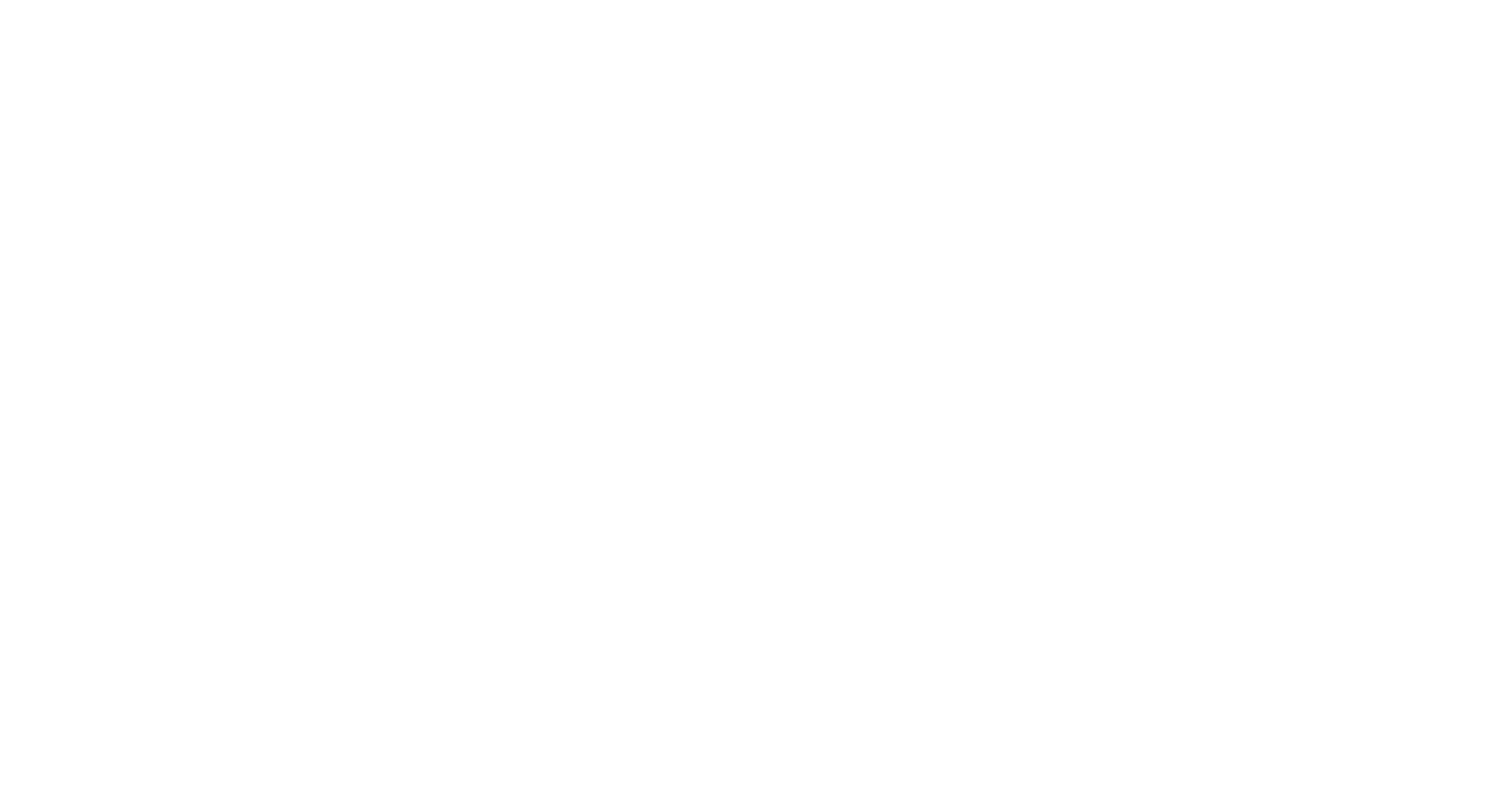
Можно было назвать фильм «Сергей Бодров», как это обычно делается. А вы пошли сложным путем, взяли цитату из стихотворения Иосифа Бродского.
Вариантов названия было много. Дольше всего держалось «Лед — 2002». Но оно очень не нравилось Асе. Поэтому, когда мы закончили фильм, то стали искать другое. Набрали в поисковике «в горах». И выяснилось, что у Бродского есть стихотворение с таким названием. Там есть фраза, которая нас поразила. Она словно оправдывает весь наш труд. В ней невероятное количество смыслов, хотя стихотворение не про эти горы и вообще о другом. Но поэзия обладает чудесным свойством: она отсылает нас к таким сторонам нашей жизни и нашего восприятия, что никогда не знаешь, как слово отзовется. Поэтому мы поставили стихотворение эпиграфом к нашему фильму. И мне не хотелось бы расшифровывать это здесь.
В нашем кинематографе постепенно создается некий миф о 1990-х наподобие американского мифа о 1960-х как о времени свободы, гениев, авантюризма и приключений. Ваш фильм тоже ведь в этом дискурсе?
Наверное, это в фильме есть, если считывается. Мы, естественно, не думали ни о какой мифологии, когда делали картину. Я хотел, чтобы это было живо. Чтобы было ощущение разговора о близких людях с близкими людьми. Не думаю, что меня сформировали именно 1990-е, но именно тогда нам дали возможность свободно говорить абсолютно на любые темы, без цензуры. Это была распахнутость навстречу всем ветрам, в том числе деструктивным. Но главным все же было ощущение, что мы наконец-то почувствовали себя свободными — со всеми нашими бедами, ошибками, комплексами, страхами. Все это существовало в Балабанове и в Бодрове в какой-то близкой нам форме. Хотя они сами никогда это не формулировали. Конечно, получился разговор о поколении, к которому принадлежим и я, и Сергей Сельянов, которого я знал задолго до 1990-х. Мы очень давно дружим.
Вариантов названия было много. Дольше всего держалось «Лед — 2002». Но оно очень не нравилось Асе. Поэтому, когда мы закончили фильм, то стали искать другое. Набрали в поисковике «в горах». И выяснилось, что у Бродского есть стихотворение с таким названием. Там есть фраза, которая нас поразила. Она словно оправдывает весь наш труд. В ней невероятное количество смыслов, хотя стихотворение не про эти горы и вообще о другом. Но поэзия обладает чудесным свойством: она отсылает нас к таким сторонам нашей жизни и нашего восприятия, что никогда не знаешь, как слово отзовется. Поэтому мы поставили стихотворение эпиграфом к нашему фильму. И мне не хотелось бы расшифровывать это здесь.
В нашем кинематографе постепенно создается некий миф о 1990-х наподобие американского мифа о 1960-х как о времени свободы, гениев, авантюризма и приключений. Ваш фильм тоже ведь в этом дискурсе?
Наверное, это в фильме есть, если считывается. Мы, естественно, не думали ни о какой мифологии, когда делали картину. Я хотел, чтобы это было живо. Чтобы было ощущение разговора о близких людях с близкими людьми. Не думаю, что меня сформировали именно 1990-е, но именно тогда нам дали возможность свободно говорить абсолютно на любые темы, без цензуры. Это была распахнутость навстречу всем ветрам, в том числе деструктивным. Но главным все же было ощущение, что мы наконец-то почувствовали себя свободными — со всеми нашими бедами, ошибками, комплексами, страхами. Все это существовало в Балабанове и в Бодрове в какой-то близкой нам форме. Хотя они сами никогда это не формулировали. Конечно, получился разговор о поколении, к которому принадлежим и я, и Сергей Сельянов, которого я знал задолго до 1990-х. Мы очень давно дружим.
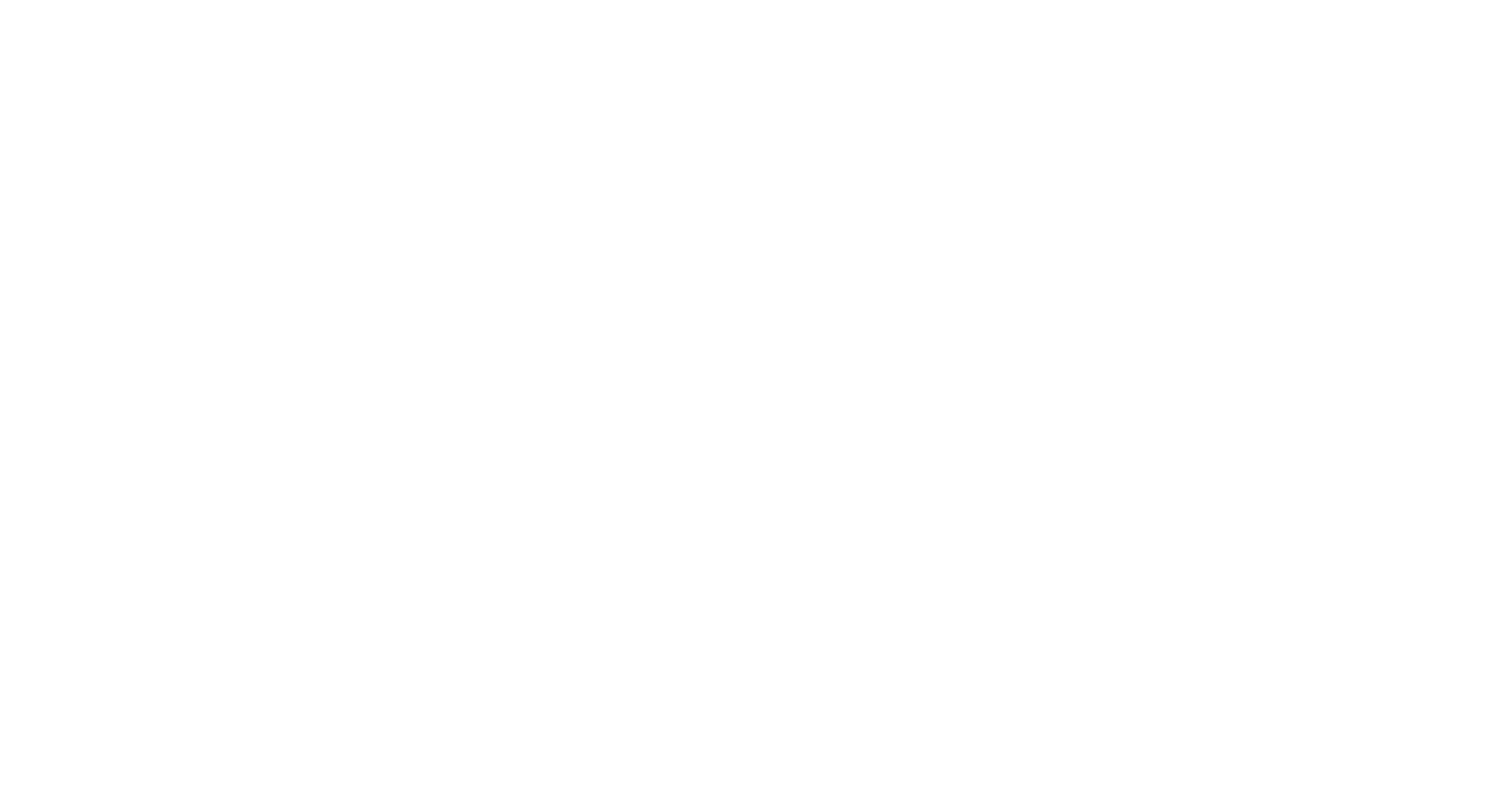
Интервью с Сельяновым не единственное в этом фильме, но за счет метода съемки и специфического пространства, в которое вы поместили спикера, оно находится в центре композиции, стало ее стержнем. Это было умышленно?
Ничего не бывает умышленно в документальном кино. Сценарий складывается в процессе монтажа. Действительно, с Сергеем Сельяновым случился какой-то особый контакт. Мало кто пока смотрел эту картину, но эти люди говорили мне, что такого Сельянова они никогда не видели. Я сам был этим интервью поражен. Вот, опять же про мистику. Мы пришли в Музей архитектуры, и директор музея Елизавета Лихачева, которая даже не знала, зачем мы пришли, вдруг рассказала, что прямо на нее с полки сегодня свалилась книга, Елизавета принесла ее нам. Мы же это не планировали, не знали, что будем это использовать. Вообще, как такового знания в этой картине мало. В том смысле, что все и так знают, что Сережа погиб, что они с Лешей сделали вот эти фильмы. И мы снимали не про это и не для этого. Это не фильм в стиле «а сейчас мы узнаем всю правду». А снимали для того, чтобы обновить нашу эмоциональную память. Чтобы заново это прочувствовать, прожить. Наша память оскудевает. Нам сегодня навязываются другие смыслы, которые нашу память изменяют, в том числе историческую. А мы нашу память должны беречь.
Да, для меня интервью с Сельяновым тоже было откровением, оно отчасти сформировало фильм. Хотя многие другие интервью в фильме мне тоже кажутся очень важными — и с Надеждой Васильевой, и с Вячеславом Бутусовым, и с Сережей Астаховым. Мы хотели, чтобы это была картина не только о тех, о ком мы рассказываем, но и о тех, кто рассказывает. Мы очень тщательно подошли к процессу съемок, фильм сняли операторы Алексей Федоров и Илья Копылов. Они все это увидели и почувствовали совершенно, с технической точки зрения, но и предельно свободно, потому что в документальном кино ничего не должно быть навязано герою. Реализм существования в кадре — это то, чего я всегда старался добиться, не только в этой картине, но и во многих других.
У вас был фильм «Балабанов на войне», но оттуда в этот фильм почти ничего не вошло, да и сам фильм «Война» практически не фигурирует.
Мы взяли оттуда, может быть, секунд 10, остальной материал вообще нигде не был показан. Я тот фильм, кстати, давно думаю восстановить, но это требует определенных усилий. Чтобы его показывать людям, нужно решить, что делать с рядом моментов, и мат — далеко не главное, что может помешать.
Высказаться до конца, когда речь идет о серьезных вещах, невозможно. Особенно в документальном кино — нет никакой точки, всегда хочется еще и еще. Монтаж помогает сконцентрировать то, что ты перевидел и перечувствовал. В новом фильме отсутствует не только «Война». Там нет, например, еще сценарных работ Бодрова, работы на телевидении. Бывают фильмы, где 150 человек сказали по два слова, потом кто-то это склеил — и пошли титры. Но спам — не наш метод. Через несколько месяцев будут отмечать 50-летие Сергея, и вот там наверняка будет снято много других фильмов, где все желающие поделятся своими воспоминаниями в полной мере. А нам нужно было, чтобы именно наши герои высказались с художественной полнотой. Чтобы умершие люди общались через монтаж с живыми так естественно, словно все они сидят за одним столом.
Для меня счастливой случайностью стала встреча с Вячеславом Бутусовым. Мы с ним лично не были знакомы, но выяснилось, что он хорошо знает наше творчество. Он дал нам интервью — и бесплатно дал свою музыку, которая звучит в фильме. Такого Бутусова мало кто слышал, это ведь фортепианные пьесы серьезного композитора. Надеюсь, после фильма многие обратят на это внимание. Кстати, еще одна неслучайная случайность. Когда мы выбрали фрагменты пьес для фильма, оказалось, что один из них называется «Рафаэль», а второй — «Джотто». А Сережа Бодров изучал искусство Возрождения, и одно из интервью с ним записано именно в Венеции.
Ничего не бывает умышленно в документальном кино. Сценарий складывается в процессе монтажа. Действительно, с Сергеем Сельяновым случился какой-то особый контакт. Мало кто пока смотрел эту картину, но эти люди говорили мне, что такого Сельянова они никогда не видели. Я сам был этим интервью поражен. Вот, опять же про мистику. Мы пришли в Музей архитектуры, и директор музея Елизавета Лихачева, которая даже не знала, зачем мы пришли, вдруг рассказала, что прямо на нее с полки сегодня свалилась книга, Елизавета принесла ее нам. Мы же это не планировали, не знали, что будем это использовать. Вообще, как такового знания в этой картине мало. В том смысле, что все и так знают, что Сережа погиб, что они с Лешей сделали вот эти фильмы. И мы снимали не про это и не для этого. Это не фильм в стиле «а сейчас мы узнаем всю правду». А снимали для того, чтобы обновить нашу эмоциональную память. Чтобы заново это прочувствовать, прожить. Наша память оскудевает. Нам сегодня навязываются другие смыслы, которые нашу память изменяют, в том числе историческую. А мы нашу память должны беречь.
Да, для меня интервью с Сельяновым тоже было откровением, оно отчасти сформировало фильм. Хотя многие другие интервью в фильме мне тоже кажутся очень важными — и с Надеждой Васильевой, и с Вячеславом Бутусовым, и с Сережей Астаховым. Мы хотели, чтобы это была картина не только о тех, о ком мы рассказываем, но и о тех, кто рассказывает. Мы очень тщательно подошли к процессу съемок, фильм сняли операторы Алексей Федоров и Илья Копылов. Они все это увидели и почувствовали совершенно, с технической точки зрения, но и предельно свободно, потому что в документальном кино ничего не должно быть навязано герою. Реализм существования в кадре — это то, чего я всегда старался добиться, не только в этой картине, но и во многих других.
У вас был фильм «Балабанов на войне», но оттуда в этот фильм почти ничего не вошло, да и сам фильм «Война» практически не фигурирует.
Мы взяли оттуда, может быть, секунд 10, остальной материал вообще нигде не был показан. Я тот фильм, кстати, давно думаю восстановить, но это требует определенных усилий. Чтобы его показывать людям, нужно решить, что делать с рядом моментов, и мат — далеко не главное, что может помешать.
Высказаться до конца, когда речь идет о серьезных вещах, невозможно. Особенно в документальном кино — нет никакой точки, всегда хочется еще и еще. Монтаж помогает сконцентрировать то, что ты перевидел и перечувствовал. В новом фильме отсутствует не только «Война». Там нет, например, еще сценарных работ Бодрова, работы на телевидении. Бывают фильмы, где 150 человек сказали по два слова, потом кто-то это склеил — и пошли титры. Но спам — не наш метод. Через несколько месяцев будут отмечать 50-летие Сергея, и вот там наверняка будет снято много других фильмов, где все желающие поделятся своими воспоминаниями в полной мере. А нам нужно было, чтобы именно наши герои высказались с художественной полнотой. Чтобы умершие люди общались через монтаж с живыми так естественно, словно все они сидят за одним столом.
Для меня счастливой случайностью стала встреча с Вячеславом Бутусовым. Мы с ним лично не были знакомы, но выяснилось, что он хорошо знает наше творчество. Он дал нам интервью — и бесплатно дал свою музыку, которая звучит в фильме. Такого Бутусова мало кто слышал, это ведь фортепианные пьесы серьезного композитора. Надеюсь, после фильма многие обратят на это внимание. Кстати, еще одна неслучайная случайность. Когда мы выбрали фрагменты пьес для фильма, оказалось, что один из них называется «Рафаэль», а второй — «Джотто». А Сережа Бодров изучал искусство Возрождения, и одно из интервью с ним записано именно в Венеции.
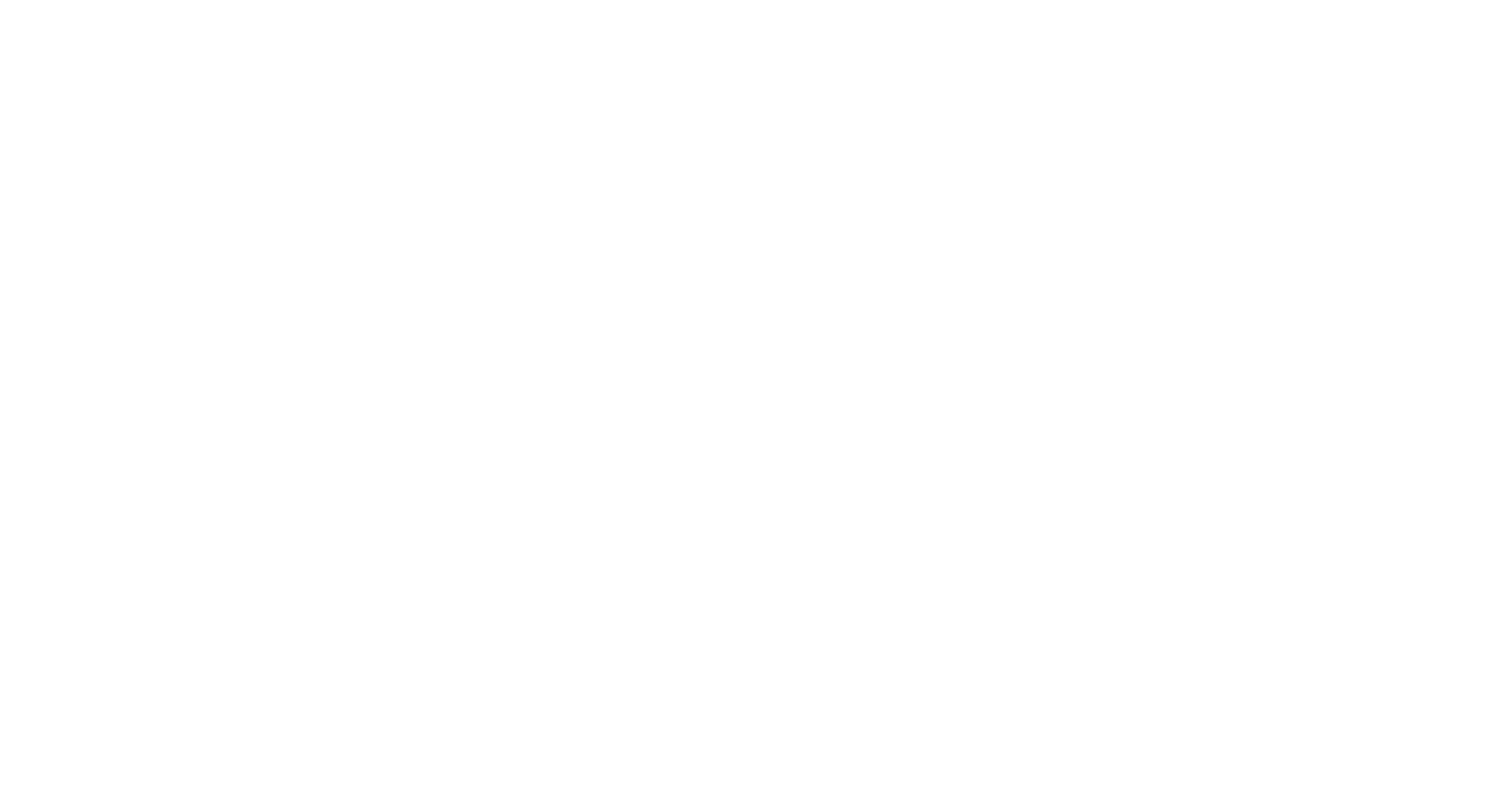
В Венеции был показ последнего фильма Балабанова «Я тоже хочу», и казалось, что это кино, которое совсем не для европейского зрителя. Что должно случиться, чтобы Балабанова восприняли за рубежом?
Позволю себе не согласиться. Фестивальная публика хорошо его знает, почти все балабановские фильмы показывались на крупных смотрах. «Груз 200» тоже был в Венеции, «Брат» — в Канне, я уже не говорю про десятки других фестивалей. Но раз уж вы заговорили о «Я тоже хочу», то отмечу еще одно совпадение. Когда мы пришли снимать в Музей архитектуры, там была знаете какая выставка? Посвященная затонувшим церквям! Мы повели туда Сельянова, и у меня было ощущение, что это продолжение фильма Балабанова. Тем более что на сороковой день после смерти Балабанова храм, который он снимал, как известно, рухнул. И Сельянов смотрел на это и не верил своим глазам. Как будто кто-то нам давал знаки или указывал путь.
Как вы думаете, Сергей Бодров так же принадлежит своей эпохе, как, скажем, Геннадий Шпаликов, или он и сейчас воспринимается как современник?
Мне кажется, в фильме заметно, что Сергей Бодров принадлежит не только своему времени. Мы ведь не ограничиваемся только «Братом», а говорим, что и режиссер он был великолепный. Его книги об архитектуре стали учебниками. Я пересматривал «Брата» и поражался, насколько он отточен и мудр. Насколько он рискованный. Фильмы Балабанова — не только «Брат» — пересматривают до сих пор.
«Нас других не будет» выходит в кинотеатральный прокат. Вы знали, что так будет?
Для нас это большая неожиданность. Нам даже в голову не могло прийти, что наш скромный, мягко выражаясь, off-budget-труд будет иметь такую удивительную судьбу. Сначала «Кинотавр», что для нас большая честь — и большая ответственность. 5 октября фильм выйдет в кино, а потом и онлайн. Еще одна деталь насчет бюджета, между прочим. Поскольку фильм выходит на онлайн-платформе, там определенные требования к техническому качеству. Для нашего архива требовалось восстановление цвета. Мы обратились в «Саламандру», и нам поначалу выставили смету, которая была больше половины всего бюджета. Но потом Иван Масленников сказал, что он этот фильм будет делать только сам и практически бесплатно. А затем выяснилось, что первые материалы «Связного» — фильма, который начал снимать Сережа Бодров, — тоже ему знакомы, он ими должен был заниматься. И вклад Ивана в наш фильм в итоге оказался огромный.
Вы показывали фильм Сергею Бодрову — старшему?
Я ему позвонил, сказал, что буду делать картину, и он ответил просто: «Делай!» Вот мы и сделали. Первый просмотр в зале состоялся на «Мосфильме», там были Надя Васильева, Сережа Сельянов, Ситора Алиева, Александр Роднянский, Евгений Никишов, Валерий Федорович. Проходящие мимо киношники даже несколько изумились, увидев такую замечательную компанию. Нам этот фильм определенно заказали Леша Балабанов и Сережа Бодров. Надеюсь, мы справились.
Позволю себе не согласиться. Фестивальная публика хорошо его знает, почти все балабановские фильмы показывались на крупных смотрах. «Груз 200» тоже был в Венеции, «Брат» — в Канне, я уже не говорю про десятки других фестивалей. Но раз уж вы заговорили о «Я тоже хочу», то отмечу еще одно совпадение. Когда мы пришли снимать в Музей архитектуры, там была знаете какая выставка? Посвященная затонувшим церквям! Мы повели туда Сельянова, и у меня было ощущение, что это продолжение фильма Балабанова. Тем более что на сороковой день после смерти Балабанова храм, который он снимал, как известно, рухнул. И Сельянов смотрел на это и не верил своим глазам. Как будто кто-то нам давал знаки или указывал путь.
Как вы думаете, Сергей Бодров так же принадлежит своей эпохе, как, скажем, Геннадий Шпаликов, или он и сейчас воспринимается как современник?
Мне кажется, в фильме заметно, что Сергей Бодров принадлежит не только своему времени. Мы ведь не ограничиваемся только «Братом», а говорим, что и режиссер он был великолепный. Его книги об архитектуре стали учебниками. Я пересматривал «Брата» и поражался, насколько он отточен и мудр. Насколько он рискованный. Фильмы Балабанова — не только «Брат» — пересматривают до сих пор.
«Нас других не будет» выходит в кинотеатральный прокат. Вы знали, что так будет?
Для нас это большая неожиданность. Нам даже в голову не могло прийти, что наш скромный, мягко выражаясь, off-budget-труд будет иметь такую удивительную судьбу. Сначала «Кинотавр», что для нас большая честь — и большая ответственность. 5 октября фильм выйдет в кино, а потом и онлайн. Еще одна деталь насчет бюджета, между прочим. Поскольку фильм выходит на онлайн-платформе, там определенные требования к техническому качеству. Для нашего архива требовалось восстановление цвета. Мы обратились в «Саламандру», и нам поначалу выставили смету, которая была больше половины всего бюджета. Но потом Иван Масленников сказал, что он этот фильм будет делать только сам и практически бесплатно. А затем выяснилось, что первые материалы «Связного» — фильма, который начал снимать Сережа Бодров, — тоже ему знакомы, он ими должен был заниматься. И вклад Ивана в наш фильм в итоге оказался огромный.
Вы показывали фильм Сергею Бодрову — старшему?
Я ему позвонил, сказал, что буду делать картину, и он ответил просто: «Делай!» Вот мы и сделали. Первый просмотр в зале состоялся на «Мосфильме», там были Надя Васильева, Сережа Сельянов, Ситора Алиева, Александр Роднянский, Евгений Никишов, Валерий Федорович. Проходящие мимо киношники даже несколько изумились, увидев такую замечательную компанию. Нам этот фильм определенно заказали Леша Балабанов и Сережа Бодров. Надеюсь, мы справились.
основной конкурс
Как вы решили, что эта история должна стать фильмом, а не, например, театральной постановкой?
Скорее, это цепочка случайностей, чем осознанный выбор в пользу кинематографа. Работа над картиной совпала с пандемией: театр оказался законсервированным и оторванным от зрителя, все — изолированы друг от друга, будущее — неизвестно. Но в такой ситуации мы тем более не могли прекратить свой диалог с внешним миром. В таких обстоятельствах мои мысли вернулись к театральному тексту, прочитанному мною когда-то, и мои фантазии зашагнули на территорию кино. Сложилась история как-то естественно, сама собой. Раньше коллеги не раз провоцировали меня подумать о кино, а я отвечал: «А нет у меня истории, которую хотелось бы снять». И это правда: все, что мне хочется, само собой умещалось в пространстве театра, в этом было что-то естественное, органичное. В театре проживается моя особенная жизнь. Кино — другой, сложный и неизведанный мир, очень серьезный. Всегда с большим уважением относился к кинематографистам. И вот мне в очередной раз шутливо напомнили о работе с кадром. Высылаю продюсеру набросок сценария на основе диалогов из пьесы Алексея Еньшина «Родительский день». Ну, а дальше все как-то закрутилось. Через неделю звонит Никита Владимиров и так как-то просто и легко спрашивает: «Когда начинаем?» Мне бы только помечтать, а это все не шутки, оказывается, совсем не шутки. И дальше снова помог случай: в условиях пандемии многие сидели без дела, поэтому собрать команду и запустить процесс получилось быстро — не пришлось никого уговаривать и ждать, все были готовы ринуться в любую авантюру, так все соскучились по работе.
В самом сюжете есть элементы, которые было интереснее рассказать средствами кино, а не театра?
Просто в кино все совершенно по-другому, в кино возможно легко существовать в нескольких реальностях одновременно. Мы рассказываем историю семьи, разные поколения которой переживают тяжелые времена. А наши главные герои объезжают могилы родственников, начиная с третьего колена. Можно путешествовать и вращаться во времени, меняя и интегрируя фактуры времени, без которых в нашей истории не обойтись. Диалог с дедами, жертвами репрессий, воспоминания из детства — это все работа воображения, которую выразить в кино можно совершенно иными средствами, чем в театре. В театре важнее работа с текстом. В кино прежде всего важен визуальный образ, здесь нужно собрать целое, композицию кадров. Танец, слово. (Смеется.)
Как вы пробовали войти в мир кино раньше?
Это были первые годы 1990-х, предложили разбогатевшие в бизнесе друзья, поклонники моего творчества: на, мол, снимай кино. Мы увлеклись, начали придумывать, запустили подготовительный период, но через какое-то время деньги резко закончились — в общем, до самих съемок дело так и не дошло. Хотя был пройден важный этап подготовки, кастинг — должны были сниматься замечательные артисты, которые сегодня вполне творчески реализовались и стали известными художниками.
Скорее, это цепочка случайностей, чем осознанный выбор в пользу кинематографа. Работа над картиной совпала с пандемией: театр оказался законсервированным и оторванным от зрителя, все — изолированы друг от друга, будущее — неизвестно. Но в такой ситуации мы тем более не могли прекратить свой диалог с внешним миром. В таких обстоятельствах мои мысли вернулись к театральному тексту, прочитанному мною когда-то, и мои фантазии зашагнули на территорию кино. Сложилась история как-то естественно, сама собой. Раньше коллеги не раз провоцировали меня подумать о кино, а я отвечал: «А нет у меня истории, которую хотелось бы снять». И это правда: все, что мне хочется, само собой умещалось в пространстве театра, в этом было что-то естественное, органичное. В театре проживается моя особенная жизнь. Кино — другой, сложный и неизведанный мир, очень серьезный. Всегда с большим уважением относился к кинематографистам. И вот мне в очередной раз шутливо напомнили о работе с кадром. Высылаю продюсеру набросок сценария на основе диалогов из пьесы Алексея Еньшина «Родительский день». Ну, а дальше все как-то закрутилось. Через неделю звонит Никита Владимиров и так как-то просто и легко спрашивает: «Когда начинаем?» Мне бы только помечтать, а это все не шутки, оказывается, совсем не шутки. И дальше снова помог случай: в условиях пандемии многие сидели без дела, поэтому собрать команду и запустить процесс получилось быстро — не пришлось никого уговаривать и ждать, все были готовы ринуться в любую авантюру, так все соскучились по работе.
В самом сюжете есть элементы, которые было интереснее рассказать средствами кино, а не театра?
Просто в кино все совершенно по-другому, в кино возможно легко существовать в нескольких реальностях одновременно. Мы рассказываем историю семьи, разные поколения которой переживают тяжелые времена. А наши главные герои объезжают могилы родственников, начиная с третьего колена. Можно путешествовать и вращаться во времени, меняя и интегрируя фактуры времени, без которых в нашей истории не обойтись. Диалог с дедами, жертвами репрессий, воспоминания из детства — это все работа воображения, которую выразить в кино можно совершенно иными средствами, чем в театре. В театре важнее работа с текстом. В кино прежде всего важен визуальный образ, здесь нужно собрать целое, композицию кадров. Танец, слово. (Смеется.)
Как вы пробовали войти в мир кино раньше?
Это были первые годы 1990-х, предложили разбогатевшие в бизнесе друзья, поклонники моего творчества: на, мол, снимай кино. Мы увлеклись, начали придумывать, запустили подготовительный период, но через какое-то время деньги резко закончились — в общем, до самих съемок дело так и не дошло. Хотя был пройден важный этап подготовки, кастинг — должны были сниматься замечательные артисты, которые сегодня вполне творчески реализовались и стали известными художниками.
Читать дальше
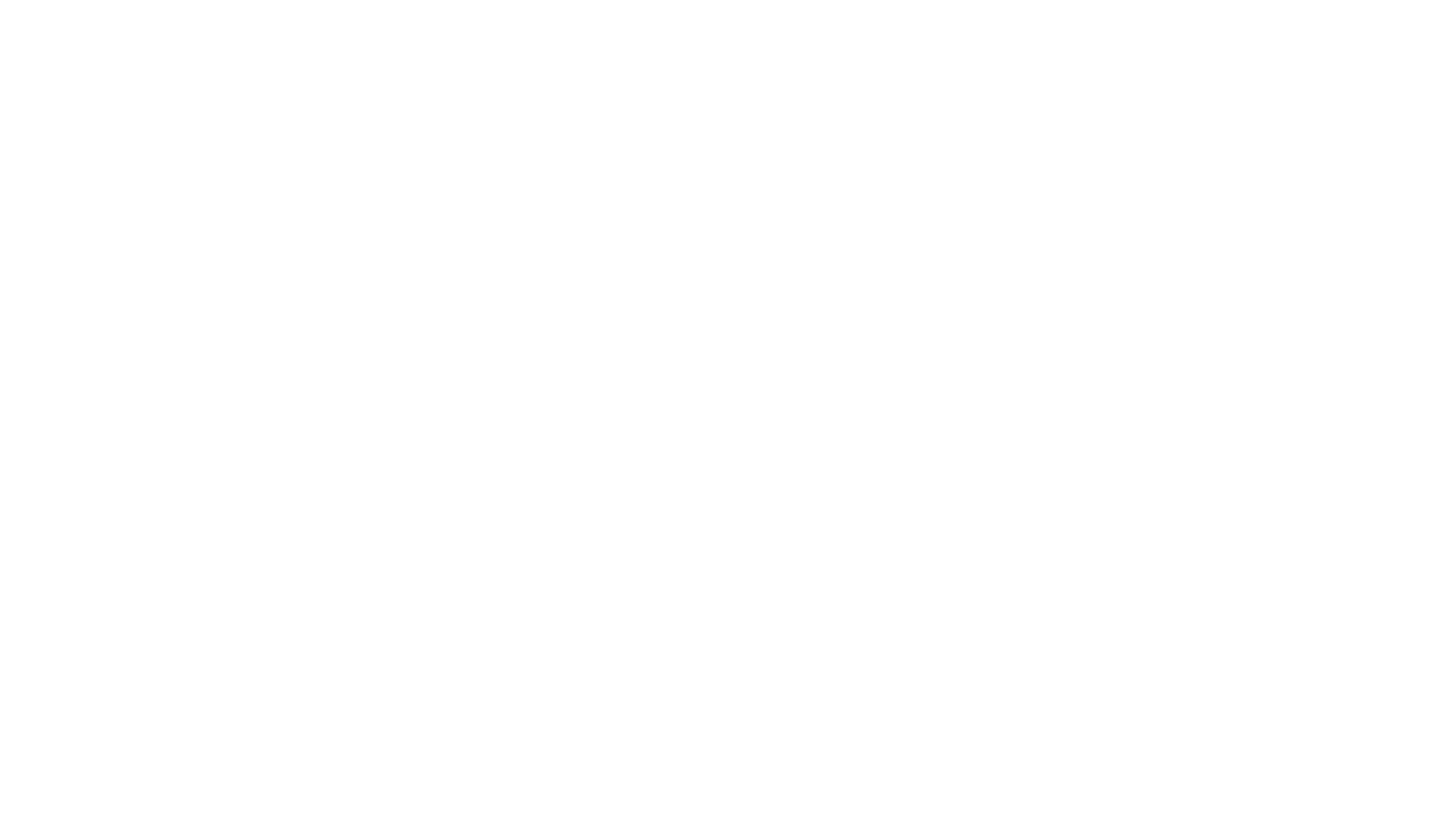
О чем была картина?
О сокрушающей силе молодости, о любви и первых взаимоотношениях, о разных мирах и обстоятельствах жизни, о том, как сложно друг друга услышать, о том, как любовью можно спастись. Меня тогда это все очень занимало, все это казалось крайне важным. Но фильм так и не был снят.
Был еще опыт сотрудничества с близкими друзьями, с Иваном Вырыпаевым, который снимал уже свое кино. Мне лишь хотелось ему помогать в подготовке актерских партитур текста. А сочинять такую работу вдвоем казалось невозможным. Театр у меня съедал огромное количество времени, мыслей, сил, хотений, так что до кино все просто не доходило. Работа над фильмом — это же целая новая жизнь. И важно, с кем этот отрезок жизни ты будешь проживать. Для меня очень важна команда, съемки предполагают бесконечную череду взаимодействий с большим количеством творческих людей. Вот пандемия и позволила нам все это вдруг организовать, и я безмерно благодарен людям, которые разделяли эту работу со мной. Благодаря их энергии и таланту что-то у нас, возможно, и получилось.
Все происходящее для меня было сплошным испытанием. И такой нахальный дебютант-переросток меня совсем не устраивал. После первых же дней работы происходящее показалось мне абсолютным безумием, не находилось ответа на вопрос, как все это могло произойти и зачем я вообще за это взялся. Был момент, когда захотелось все остановить. Но процесс был запущен, люди находились в 400 километрах от цивилизации — целый караван серьезных людей и машин. Думаю, нас спасли именно условия экспедиции, в которой ты можешь остаться наедине с самим собой только на время сна, а все остальное время либо снимаешь, либо готовишься к кадру, либо страдаешь.
Пьесу Алексея Еньшина вы увидели на «Первой читке»?
Да. Ну, конечно же, прочитал текст пьесы до лаборатории, а на самом фестивале в Петербурге уже увидел эскиз придумываемого будущего спектакля. Читали два актера: парень читал за сына, а актриса с жизненным опытом — за мать. И вот на читке я будто увидел эту историю совсем другим внутренним взглядом. Не потому, что они читали не увлеченно, нет — как раз артисты читали за героев замечательно! — просто представилось и услышалось мне это все совершенно другим. Тогда я и не задумывался, что может получиться из этого наваждения — спектакль или фильм, — просто сохранил ощущение, ощущение важности этого диалога, который, быть может, совпал с моими мыслями о мире.
Обстоятельства жизни героев были далеки от моей собственной жизни. Обстоятельства, но не жизнь. Мое детство было счастливым и прошло среди любящих людей, да и мои разговоры с родителями были совсем другими, но диалоги героев никак не выходили у меня из головы и как будто были очень знакомыми и почему-то очень важными.
Удивительно все-таки: вы в жизни читали сотни пьес и видели сотни читок, и вдруг одна вот так зацепила.
Но так ведь в жизни и бывает, истории рождаются совершенно неожиданно. «Когда б вы знали, из какого сора…» (Смеется.) Вдруг ты понимаешь, что хочется говорить другим языком. Герои фильма ездят по могилам своих родных и предков — вот и для меня это стало особенным путешествием по своей памяти длиною в месяц… месяц нашей экспедиции, месяц погружения в иные миры. Затем это повторилось, продолжилось в процессе монтажа, который длился куда дольше. Оставшись наедине с отснятым материалом, нужно было как-то выживать. Моя кинематографическая беспомощность нуждалась в поддержке, понимании, соавторстве. С композитором, выпускником Школы-студии МХАТ Александром Девятьяровым мы начали обсуждать музыку задолго до съемок. Саша замечательный человек и артист, очень внимательный к любым творческим процессам. Но нужны были еще душа и руки в собирании снятых кадров в целое. Вот тут и случилась Аня Залевская — режиссер-документалист, ученица великой Марины Разбежкиной. Она и согласилась войти со мной в сговор в роли режиссера монтажа. Молодая, неискушенная, требовательная, собранная, бесконечно занятая своими проектами, чуткая и невероятно трепетная. Мы с Аней, как герои фильма, оказались на разных возрастных полюсах, ну, как отец и дочь что ли, вдруг стали рифмой героям нашего фильма — Матери и Сыну. Работа проходила чаще всего по ночам, когда освобождалось время от основных дел, мы долго разговаривали, делились, обменивались и даже — правда, совсем редко — спорили. Временами встречались в реальности и вместе смотрели материал, прислушивались друг к другу, а далее были ночные просмотры вариантов по телефону, на совсем маленьком экране, который, тем не менее, мог многое передать. Телефон — тоже один из героев или объектов нашей истории.
О сокрушающей силе молодости, о любви и первых взаимоотношениях, о разных мирах и обстоятельствах жизни, о том, как сложно друг друга услышать, о том, как любовью можно спастись. Меня тогда это все очень занимало, все это казалось крайне важным. Но фильм так и не был снят.
Был еще опыт сотрудничества с близкими друзьями, с Иваном Вырыпаевым, который снимал уже свое кино. Мне лишь хотелось ему помогать в подготовке актерских партитур текста. А сочинять такую работу вдвоем казалось невозможным. Театр у меня съедал огромное количество времени, мыслей, сил, хотений, так что до кино все просто не доходило. Работа над фильмом — это же целая новая жизнь. И важно, с кем этот отрезок жизни ты будешь проживать. Для меня очень важна команда, съемки предполагают бесконечную череду взаимодействий с большим количеством творческих людей. Вот пандемия и позволила нам все это вдруг организовать, и я безмерно благодарен людям, которые разделяли эту работу со мной. Благодаря их энергии и таланту что-то у нас, возможно, и получилось.
Все происходящее для меня было сплошным испытанием. И такой нахальный дебютант-переросток меня совсем не устраивал. После первых же дней работы происходящее показалось мне абсолютным безумием, не находилось ответа на вопрос, как все это могло произойти и зачем я вообще за это взялся. Был момент, когда захотелось все остановить. Но процесс был запущен, люди находились в 400 километрах от цивилизации — целый караван серьезных людей и машин. Думаю, нас спасли именно условия экспедиции, в которой ты можешь остаться наедине с самим собой только на время сна, а все остальное время либо снимаешь, либо готовишься к кадру, либо страдаешь.
Пьесу Алексея Еньшина вы увидели на «Первой читке»?
Да. Ну, конечно же, прочитал текст пьесы до лаборатории, а на самом фестивале в Петербурге уже увидел эскиз придумываемого будущего спектакля. Читали два актера: парень читал за сына, а актриса с жизненным опытом — за мать. И вот на читке я будто увидел эту историю совсем другим внутренним взглядом. Не потому, что они читали не увлеченно, нет — как раз артисты читали за героев замечательно! — просто представилось и услышалось мне это все совершенно другим. Тогда я и не задумывался, что может получиться из этого наваждения — спектакль или фильм, — просто сохранил ощущение, ощущение важности этого диалога, который, быть может, совпал с моими мыслями о мире.
Обстоятельства жизни героев были далеки от моей собственной жизни. Обстоятельства, но не жизнь. Мое детство было счастливым и прошло среди любящих людей, да и мои разговоры с родителями были совсем другими, но диалоги героев никак не выходили у меня из головы и как будто были очень знакомыми и почему-то очень важными.
Удивительно все-таки: вы в жизни читали сотни пьес и видели сотни читок, и вдруг одна вот так зацепила.
Но так ведь в жизни и бывает, истории рождаются совершенно неожиданно. «Когда б вы знали, из какого сора…» (Смеется.) Вдруг ты понимаешь, что хочется говорить другим языком. Герои фильма ездят по могилам своих родных и предков — вот и для меня это стало особенным путешествием по своей памяти длиною в месяц… месяц нашей экспедиции, месяц погружения в иные миры. Затем это повторилось, продолжилось в процессе монтажа, который длился куда дольше. Оставшись наедине с отснятым материалом, нужно было как-то выживать. Моя кинематографическая беспомощность нуждалась в поддержке, понимании, соавторстве. С композитором, выпускником Школы-студии МХАТ Александром Девятьяровым мы начали обсуждать музыку задолго до съемок. Саша замечательный человек и артист, очень внимательный к любым творческим процессам. Но нужны были еще душа и руки в собирании снятых кадров в целое. Вот тут и случилась Аня Залевская — режиссер-документалист, ученица великой Марины Разбежкиной. Она и согласилась войти со мной в сговор в роли режиссера монтажа. Молодая, неискушенная, требовательная, собранная, бесконечно занятая своими проектами, чуткая и невероятно трепетная. Мы с Аней, как герои фильма, оказались на разных возрастных полюсах, ну, как отец и дочь что ли, вдруг стали рифмой героям нашего фильма — Матери и Сыну. Работа проходила чаще всего по ночам, когда освобождалось время от основных дел, мы долго разговаривали, делились, обменивались и даже — правда, совсем редко — спорили. Временами встречались в реальности и вместе смотрели материал, прислушивались друг к другу, а далее были ночные просмотры вариантов по телефону, на совсем маленьком экране, который, тем не менее, мог многое передать. Телефон — тоже один из героев или объектов нашей истории.
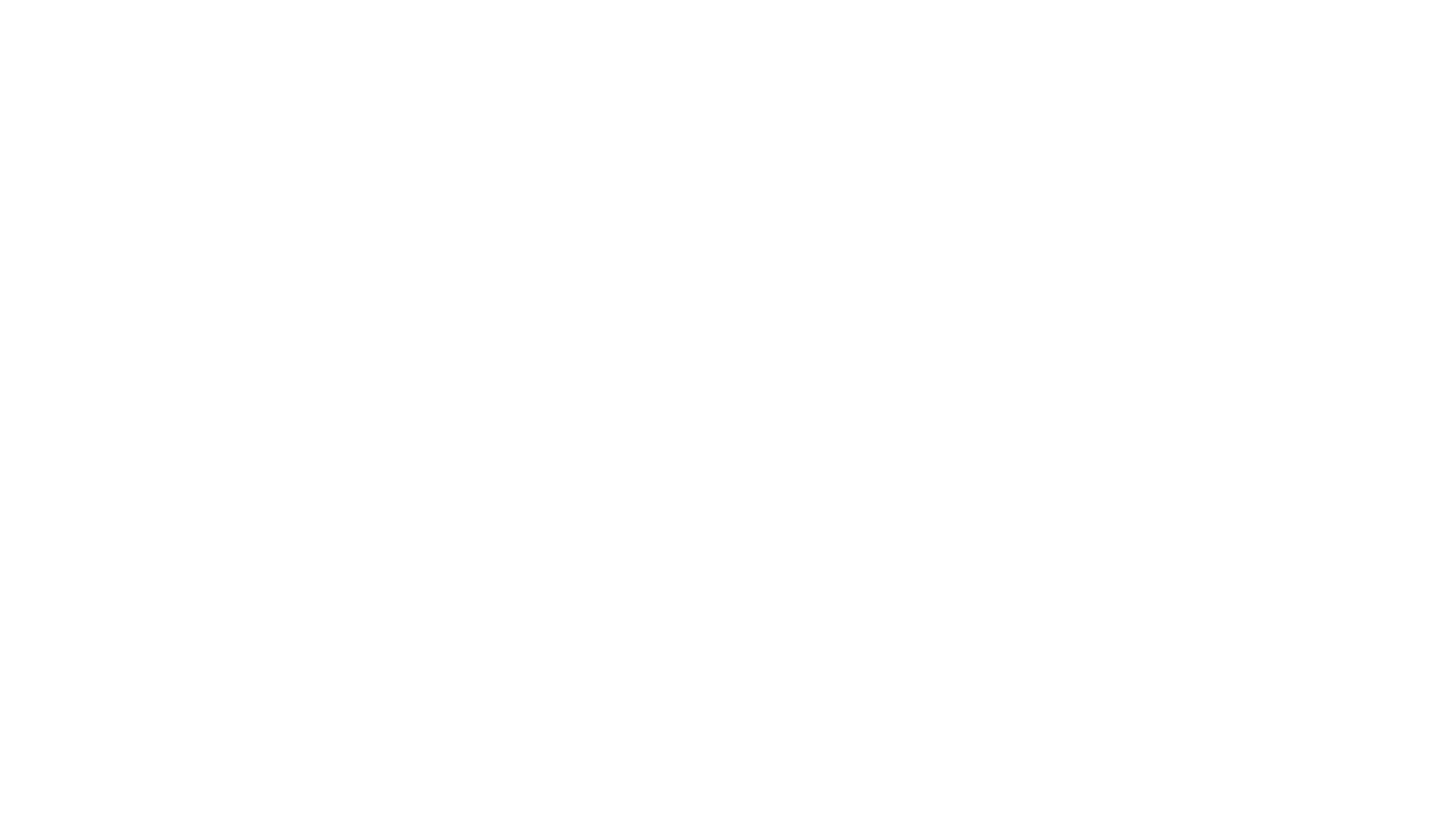
Как вы превращали пьесу в сценарий?
Пьеса замечательная. Она состоит из бесконечных диалогов, они объемные и для театра необходимые, но их хватило бы на три фильма. В формате кино, наоборот, слов нужно не много. Но эти диалоги были настоящими и важнейшими, мне оставалось придумать вторую, параллельную реальность, которая существует у героев, — обрывки памяти из детства, какой-то сложившийся образ счастливого, но и несправедливого мира, — все это изменяло линейный ход событий, в котором персонажи совершают паломничество по могилам сородичей. Но нашего сценария, конечно же, никогда не было бы без пьесы Алексея Еньшина — удивительно чуткого драматурга и автора человеческих историй, спровоцировавшего меня на это рискованное путешествие.
А как появилась у вас тема Мексики и латиноамериканского праздника День мертвых?
Все это связано, как мне причудилось, с мечтой героя. Почти как у ильфопетровского Остапа Бендера: хрустальная мечта — Рио-де-Жанейро… у нашего героя — мечта о какой-то особенной и красивой стране Мексике, именно своей Мексике. С одной стороны, это ироничный образ, с другой — будто и правда есть другая страна, очень далекая, в которой все совершенно по-другому, жизнь, любовь, люди. Вот и возникает ироничный образ какого-то праздника мертвых, какого-то веселого карнавала наподобие Хэллоуина, какое-то стремление молодых людей говорить о смерти на другом, понятном только им языке. Вдруг становится очевидным, что есть поколение, которое относится к смерти иначе, у которого слово «мертвый» не вызывает отчуждения и страха.
В нашей истории существует еще один персонаж из реальной жизни — это, конечно же, машина, способная унести тебя в бесконечное путешествие, в дорогу, у которой не будет конца. Наш «мерседес» 1983 года рождения — мечта героя. Если в него сесть, то есть надежда совершить путешествие в свою Мексику, очутиться в другой реальности. Именно эту машину мы искали и выбирали очень пристрастно, но не очень долго — она вдруг случилась. Мои коллеги, художник-постановщик Катя Джагарова и оператор Женя Козлов, были невероятно требовательны и строги в выборе, но здесь мы все вместе совпали! Наша «машина времени» была найдена. Нам повезло найти ее в срок. Удивительно, но как будто кто-то специально сохранил в идеальном состоянии эту «древнюю машину», способную пережить такой серьезный марафон.
Испанская речь за кадром в самом начале фильма — это учительница обучает детей числительным?
Точно, урок в школе. Это тоже из детских воспоминаний героя. Придуманные нами азы его жизни, откуда и вырастает особенная «мексиканская» мечта про далекую неизвестную страну, в появлении которой повинна в том числе и молодая неравнодушная учительница, случайно попавшая в областную школу со своей любовью к испанскому языку.
Говорят, вы хотели снимать на Урале, но в итоге поехали в Карелию.
Это судьба! Просто необходимо было уехать из Москвы, оторваться от привычного. Урал рассматривали серьезно, именно там у автора пьесы происходят все события. Но думали еще про Карелию, туда вырваться было проще и дешевле, вот и поехали туда на локацию, чтобы решить, где все-таки место нашей киноистории. В Карелии мы по-настоящему почувствовали друг друга, в Карелии мы нашли все, что было нужно. Лес, вода, невероятные пространства с практически готовыми декорациями, которые оставалось только освоить. Магически притягательное место. Все совпадало: с одной стороны, мы далеко от Москвы, а с другой — не на краю же света, можно успеть доехать и спастись. Урал — потрясающие места, наши специалисты присылали фантастические фотографии запрашиваемых нами локаций, но оказалось, что вывезти туда 50 человек группы неподъемно дорого.
Пьеса замечательная. Она состоит из бесконечных диалогов, они объемные и для театра необходимые, но их хватило бы на три фильма. В формате кино, наоборот, слов нужно не много. Но эти диалоги были настоящими и важнейшими, мне оставалось придумать вторую, параллельную реальность, которая существует у героев, — обрывки памяти из детства, какой-то сложившийся образ счастливого, но и несправедливого мира, — все это изменяло линейный ход событий, в котором персонажи совершают паломничество по могилам сородичей. Но нашего сценария, конечно же, никогда не было бы без пьесы Алексея Еньшина — удивительно чуткого драматурга и автора человеческих историй, спровоцировавшего меня на это рискованное путешествие.
А как появилась у вас тема Мексики и латиноамериканского праздника День мертвых?
Все это связано, как мне причудилось, с мечтой героя. Почти как у ильфопетровского Остапа Бендера: хрустальная мечта — Рио-де-Жанейро… у нашего героя — мечта о какой-то особенной и красивой стране Мексике, именно своей Мексике. С одной стороны, это ироничный образ, с другой — будто и правда есть другая страна, очень далекая, в которой все совершенно по-другому, жизнь, любовь, люди. Вот и возникает ироничный образ какого-то праздника мертвых, какого-то веселого карнавала наподобие Хэллоуина, какое-то стремление молодых людей говорить о смерти на другом, понятном только им языке. Вдруг становится очевидным, что есть поколение, которое относится к смерти иначе, у которого слово «мертвый» не вызывает отчуждения и страха.
В нашей истории существует еще один персонаж из реальной жизни — это, конечно же, машина, способная унести тебя в бесконечное путешествие, в дорогу, у которой не будет конца. Наш «мерседес» 1983 года рождения — мечта героя. Если в него сесть, то есть надежда совершить путешествие в свою Мексику, очутиться в другой реальности. Именно эту машину мы искали и выбирали очень пристрастно, но не очень долго — она вдруг случилась. Мои коллеги, художник-постановщик Катя Джагарова и оператор Женя Козлов, были невероятно требовательны и строги в выборе, но здесь мы все вместе совпали! Наша «машина времени» была найдена. Нам повезло найти ее в срок. Удивительно, но как будто кто-то специально сохранил в идеальном состоянии эту «древнюю машину», способную пережить такой серьезный марафон.
Испанская речь за кадром в самом начале фильма — это учительница обучает детей числительным?
Точно, урок в школе. Это тоже из детских воспоминаний героя. Придуманные нами азы его жизни, откуда и вырастает особенная «мексиканская» мечта про далекую неизвестную страну, в появлении которой повинна в том числе и молодая неравнодушная учительница, случайно попавшая в областную школу со своей любовью к испанскому языку.
Говорят, вы хотели снимать на Урале, но в итоге поехали в Карелию.
Это судьба! Просто необходимо было уехать из Москвы, оторваться от привычного. Урал рассматривали серьезно, именно там у автора пьесы происходят все события. Но думали еще про Карелию, туда вырваться было проще и дешевле, вот и поехали туда на локацию, чтобы решить, где все-таки место нашей киноистории. В Карелии мы по-настоящему почувствовали друг друга, в Карелии мы нашли все, что было нужно. Лес, вода, невероятные пространства с практически готовыми декорациями, которые оставалось только освоить. Магически притягательное место. Все совпадало: с одной стороны, мы далеко от Москвы, а с другой — не на краю же света, можно успеть доехать и спастись. Урал — потрясающие места, наши специалисты присылали фантастические фотографии запрашиваемых нами локаций, но оказалось, что вывезти туда 50 человек группы неподъемно дорого.
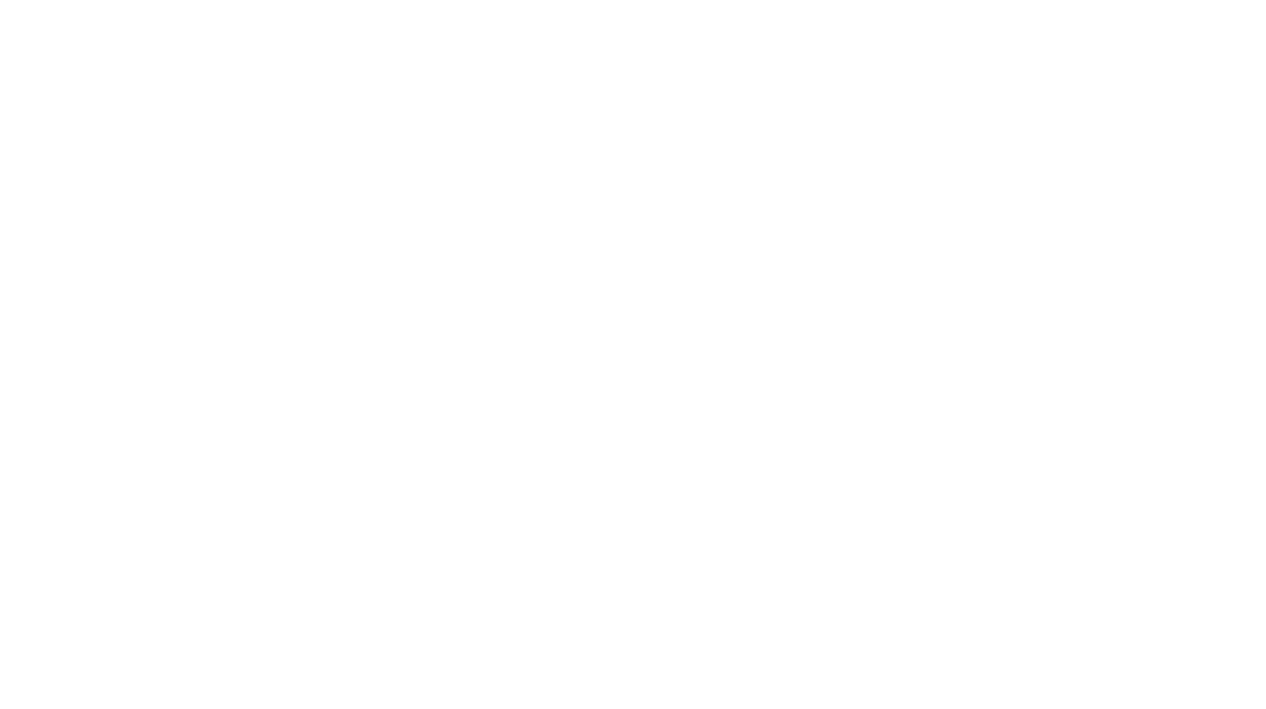
Как вы выбирали темы, которые становятся предметами спора в общении матери и сына? Были ли те, от которых решили отказаться?
Нет, ни от чего не хотелось отказываться. Возможно, мы даже упустили что-то важное. Правду сказать, мы и темы-то прямо так четко не делили. Смотрели на это в целом, как на историю взросления человека, его попытку научиться жить по-другому, понять что-то именно сегодня важное. Это момент, когда человек будто делает шаг внутри самого себя, серьезный и большой. В поездке герои остались наедине друг с другом, мать и сын, больше никого нет. И именно в этот момент с героями и происходит что-то важное — может быть, впервые у них сложился важный разговор, разговор, который мог бы состояться уже давно.
А может, произошедшее — это вообще только сон, а не реальность?! На протяжении всего пути Сын отсылает голосовые сообщения какой-то неизвестной, но особенной для него женщине, которой, быть может, ему и не хватает в реальной жизни. И почему-то именно ей он пытается сообщить что-то самое важное: «Никого у меня не осталось, один я не смогу совершить это путешествие по могилам». Очевидно, что поездка в Родительский день с матерью была не сегодня, а когда-то. А теперь герой остался с самим собой, в попытках рассуждать о жизни, о ее ценностях и о чем-то еще более важном. Всего за полтора часа мы видим, как человеческий мир может поменяться. Наверное, самое важное — уловить этот момент внутреннего взросления, изменения, когда на наших глазах человек обретает человечность. Озвученный Матерью отчаянный вопрос: «Неужели я с мертвыми общаюсь лучше, чем с живыми?» — быть может, самый главный вопрос в этом путешествии.
В спектакле «Первый хлеб», за который некоторые набросились на театр «Современник», героиня Лии Ахеджаковой тоже ведь общается с могилой. Любопытно, почему общение с мертвыми становится таким способом проявления характера живого человека?
Язык замечательной пьесы Рината Ташимова полон метафор и художественных аллегорий. В сцене бабушки Нурии на пустыре, на месте раскатанного бульдозерами бывшего кладбища, героиня силится отыскать могилу мужа, воевавшего в Афганистане, — человека, которого ей теперь так не хватает, потому что единственный любимый внук, ее надежда и опора, уходит на какую-то очередную придуманную людьми войну. Она бредет по бывшему кладбищу в поисках могилы, натыкается на единственную уцелевшую могилу ветерана Великой Отечественной войны и задает риторический, глубоко философский вопрос, как бы обращаясь в вечность: за что вы все погибали, за что воевали, чего мы добились?! Мы же защищали любовь и жизнь своих детей, чтобы никогда больше не было войны! И почему же нет этого кровью добытого мира?! Почему мы считаем, что для того чтобы жить, надо кого-то опять убивать? Конечно, этот разговор — крик отчаяния. Такой же иногда заводят подросшие дети оттого, что внушенные им некогда представления о реальности не совпадают с тем, какая эта реальность на самом деле. Чему вы меня учили и зачем? Как я могу с этим прожить в таком мире? Почему нет того, о чем вы мне все это время твердили? И тут важно найти силы и терпение, остаться все равно человеком. Пьеса полна гуманизма, ведь главная цель этой простой, пожилой, дремучей и выпивающей женщины — остановить внука, который сбегает на войну от жизни.
И неслучайно эта сцена происходит на кладбище, тема смерти тут — одна из главных. И для меня в спектакле есть ответ на главный вопрос: ради чего живет человек? Конечно же, ради любви. Если ее обрести, то и человек будет счастлив и сможет передавать это чувство следующим поколениям.
Удастся вашему театру отбиться от нападок-то?
Театру не за что оправдываться. Мы продолжаем делать свое дело. Очень хочется, чтобы мы все научились прежде всего видеть и ценить именно человека друг в друге. Может быть, это звучит наивно и даже глупо, но я уверен, что каждый человек достоин быть счастливым. Вот хочется и в театре генерировать доброжелательную атмосферу, строить мир, в котором люди умеют слышать и прощать друг друга при жизни и ценят живых не больше, чем мертвых. Но что-то сегодня потеряно нами, кому-то почему-то хочется, чтобы слез, страха и боли было больше, чтобы одна сила подавляла другую. Мы забыли, что в мире есть место каждому. И все наши социальные программы именно на это нацелены, чтобы человек мог реализоваться как творец, обрести свое желание жить счастливо и созидательно. И зритель, приходящий в театр, хочет именно сотворчества. Он приходит не оценивать театр, он приходит на территорию внутренней свободы, где можно мечтать, думать, задавать самые важные вопросы самому себе — любые, нередко болезненные и жесткие. В этом и есть суть театра.
Нет, ни от чего не хотелось отказываться. Возможно, мы даже упустили что-то важное. Правду сказать, мы и темы-то прямо так четко не делили. Смотрели на это в целом, как на историю взросления человека, его попытку научиться жить по-другому, понять что-то именно сегодня важное. Это момент, когда человек будто делает шаг внутри самого себя, серьезный и большой. В поездке герои остались наедине друг с другом, мать и сын, больше никого нет. И именно в этот момент с героями и происходит что-то важное — может быть, впервые у них сложился важный разговор, разговор, который мог бы состояться уже давно.
А может, произошедшее — это вообще только сон, а не реальность?! На протяжении всего пути Сын отсылает голосовые сообщения какой-то неизвестной, но особенной для него женщине, которой, быть может, ему и не хватает в реальной жизни. И почему-то именно ей он пытается сообщить что-то самое важное: «Никого у меня не осталось, один я не смогу совершить это путешествие по могилам». Очевидно, что поездка в Родительский день с матерью была не сегодня, а когда-то. А теперь герой остался с самим собой, в попытках рассуждать о жизни, о ее ценностях и о чем-то еще более важном. Всего за полтора часа мы видим, как человеческий мир может поменяться. Наверное, самое важное — уловить этот момент внутреннего взросления, изменения, когда на наших глазах человек обретает человечность. Озвученный Матерью отчаянный вопрос: «Неужели я с мертвыми общаюсь лучше, чем с живыми?» — быть может, самый главный вопрос в этом путешествии.
В спектакле «Первый хлеб», за который некоторые набросились на театр «Современник», героиня Лии Ахеджаковой тоже ведь общается с могилой. Любопытно, почему общение с мертвыми становится таким способом проявления характера живого человека?
Язык замечательной пьесы Рината Ташимова полон метафор и художественных аллегорий. В сцене бабушки Нурии на пустыре, на месте раскатанного бульдозерами бывшего кладбища, героиня силится отыскать могилу мужа, воевавшего в Афганистане, — человека, которого ей теперь так не хватает, потому что единственный любимый внук, ее надежда и опора, уходит на какую-то очередную придуманную людьми войну. Она бредет по бывшему кладбищу в поисках могилы, натыкается на единственную уцелевшую могилу ветерана Великой Отечественной войны и задает риторический, глубоко философский вопрос, как бы обращаясь в вечность: за что вы все погибали, за что воевали, чего мы добились?! Мы же защищали любовь и жизнь своих детей, чтобы никогда больше не было войны! И почему же нет этого кровью добытого мира?! Почему мы считаем, что для того чтобы жить, надо кого-то опять убивать? Конечно, этот разговор — крик отчаяния. Такой же иногда заводят подросшие дети оттого, что внушенные им некогда представления о реальности не совпадают с тем, какая эта реальность на самом деле. Чему вы меня учили и зачем? Как я могу с этим прожить в таком мире? Почему нет того, о чем вы мне все это время твердили? И тут важно найти силы и терпение, остаться все равно человеком. Пьеса полна гуманизма, ведь главная цель этой простой, пожилой, дремучей и выпивающей женщины — остановить внука, который сбегает на войну от жизни.
И неслучайно эта сцена происходит на кладбище, тема смерти тут — одна из главных. И для меня в спектакле есть ответ на главный вопрос: ради чего живет человек? Конечно же, ради любви. Если ее обрести, то и человек будет счастлив и сможет передавать это чувство следующим поколениям.
Удастся вашему театру отбиться от нападок-то?
Театру не за что оправдываться. Мы продолжаем делать свое дело. Очень хочется, чтобы мы все научились прежде всего видеть и ценить именно человека друг в друге. Может быть, это звучит наивно и даже глупо, но я уверен, что каждый человек достоин быть счастливым. Вот хочется и в театре генерировать доброжелательную атмосферу, строить мир, в котором люди умеют слышать и прощать друг друга при жизни и ценят живых не больше, чем мертвых. Но что-то сегодня потеряно нами, кому-то почему-то хочется, чтобы слез, страха и боли было больше, чтобы одна сила подавляла другую. Мы забыли, что в мире есть место каждому. И все наши социальные программы именно на это нацелены, чтобы человек мог реализоваться как творец, обрести свое желание жить счастливо и созидательно. И зритель, приходящий в театр, хочет именно сотворчества. Он приходит не оценивать театр, он приходит на территорию внутренней свободы, где можно мечтать, думать, задавать самые важные вопросы самому себе — любые, нередко болезненные и жесткие. В этом и есть суть театра.

Театр в России смелее, чем кино?
Вообще, театр — территория особенная, все, что здесь происходит, происходит каждый раз заново и неповторимо, почему-то именно в этом месте и в этот час. И завтра вы увидите совершенно другой спектакль, а послезавтра — совсем другой. В театре, как и в жизни, все происходит здесь и сейчас, в этом его уникальность. В неповторимости. Мир каждую минуту меняется, и меняемся мы. Театр — искусство, существующее в реальном времени. В кино же дистанция от автора к зрителю кажется более длинной, чем в театре. Кино фиксирует прошедшее. Но есть фильмы, которые можно бесконечно пересматривать, открывая для себя новые смыслы. Фильм моего детства — «Отец солдата». Впервые я посмотрел его в шестилетнем возрасте вместе с отцом и теперь могу пересматривать бесконечно — каждый раз он меня волнует до глубины души, хотя снят, казалось бы, простыми и даже архаичными способами. Но столько зафиксировано в этом фильме настоящей жизни, глубоких чувств.
В отличие от театра, кино для зрителя сегодня легкодоступно, его можно смотреть лежа на диване. А театр все же требует от человека сделать усилие — встать с дивана, потратить деньги, добраться до места назначенного спектакля, придется даже подготовиться к этой встрече. В этом есть какой-то особенный ритуал, как и в чтении книги есть что-то особенное, что заставляет человека сделать внутреннее усилие. Переставая читать, человек как будто прерывает диалог с самим собой. Ведь только читая, ты можешь услышать свой собственный голос, озвученный Толстым, Достоевским, Чеховым, Пелевиным. Именно искусство предлагает попытку поговорить с самим собой, проделать серьезную духовную работу. Конечно же, любое настоящее искусство есть зона бесконечного человековедения.
Несколько лет назад мы наблюдали целый бум курсов Школы-студии МХАТ, которые объединялись в театры. «Седьмая студия» Кирилла Серебренникова, ученики Дмитрия Брусникина, ваша мастерская, ставшая «Июльансамблем». Сейчас будто наступило затишье. Насколько оно временное и есть ли будущее у того, что называли новой искренностью?
Будущее, конечно же, есть. Каждому плоду свой срок. Времена меняются, поколения и потребности каждого поколения — тоже. Создание студий не наше открытие. Вот и «Современник» когда-то, в далеком 1956 году, таким же особенным образом зародился — группа молодых людей, окончивших Школу-студию, захотела объединиться в Студию молодых актеров. Этот процесс и есть естественный, органичный путь создания театра. Таким именно способом театр обновляется, оживает, открывая свою новую искренность. Так в начале 1990-х родился ни на кого не похожий театр Петра Наумовича Фоменко. За ним возникла «Студия театрального искусства» Сергея Женовача. В 2010-х годах начался новый всплеск рождения студийных театров. Именно студийность возвращает театр к его естественной природе. Сегодня говорят о горизонтальности театра, что по большому счету и есть суть организации настоящих театральных процессов, истинный театр всегда таким и был — местом, где нет главных и неглавных, где все равны и одинаково ценны.
Следите за «Июльансамблем»?
Мы постоянно общаемся, взаимодействуем, некоторые студийцы принимают участие в новых работах «Современника». Мне не хотелось быть руководителем этого молодого организма, есть наша общая Мастерская, и это важно, а уж «Июльансамбль» — это вотчина свободной самоорганизации молодых актеров. Я прихожу помогать, репетировать, общаться, делиться, но не руководить. В этом суть студии: все делать сообща, принимать решения вместе. Они свободнее и смелее нашего поколения, наблюдать и участвовать в этих процессах мне очень интересно. Спросите: согласен ли я со всем, что у них происходит? Конечно, нет, но ведь если бы я думал точно так же, как они, разве было бы дело?! Мир состоит из разных людей, в этом его уникальность. А научиться жить сообща и быть по-настоящему счастливыми вместе — серьезная цель. Мне кажется, обо всем этом я и снимал фильм.
Вообще, театр — территория особенная, все, что здесь происходит, происходит каждый раз заново и неповторимо, почему-то именно в этом месте и в этот час. И завтра вы увидите совершенно другой спектакль, а послезавтра — совсем другой. В театре, как и в жизни, все происходит здесь и сейчас, в этом его уникальность. В неповторимости. Мир каждую минуту меняется, и меняемся мы. Театр — искусство, существующее в реальном времени. В кино же дистанция от автора к зрителю кажется более длинной, чем в театре. Кино фиксирует прошедшее. Но есть фильмы, которые можно бесконечно пересматривать, открывая для себя новые смыслы. Фильм моего детства — «Отец солдата». Впервые я посмотрел его в шестилетнем возрасте вместе с отцом и теперь могу пересматривать бесконечно — каждый раз он меня волнует до глубины души, хотя снят, казалось бы, простыми и даже архаичными способами. Но столько зафиксировано в этом фильме настоящей жизни, глубоких чувств.
В отличие от театра, кино для зрителя сегодня легкодоступно, его можно смотреть лежа на диване. А театр все же требует от человека сделать усилие — встать с дивана, потратить деньги, добраться до места назначенного спектакля, придется даже подготовиться к этой встрече. В этом есть какой-то особенный ритуал, как и в чтении книги есть что-то особенное, что заставляет человека сделать внутреннее усилие. Переставая читать, человек как будто прерывает диалог с самим собой. Ведь только читая, ты можешь услышать свой собственный голос, озвученный Толстым, Достоевским, Чеховым, Пелевиным. Именно искусство предлагает попытку поговорить с самим собой, проделать серьезную духовную работу. Конечно же, любое настоящее искусство есть зона бесконечного человековедения.
Несколько лет назад мы наблюдали целый бум курсов Школы-студии МХАТ, которые объединялись в театры. «Седьмая студия» Кирилла Серебренникова, ученики Дмитрия Брусникина, ваша мастерская, ставшая «Июльансамблем». Сейчас будто наступило затишье. Насколько оно временное и есть ли будущее у того, что называли новой искренностью?
Будущее, конечно же, есть. Каждому плоду свой срок. Времена меняются, поколения и потребности каждого поколения — тоже. Создание студий не наше открытие. Вот и «Современник» когда-то, в далеком 1956 году, таким же особенным образом зародился — группа молодых людей, окончивших Школу-студию, захотела объединиться в Студию молодых актеров. Этот процесс и есть естественный, органичный путь создания театра. Таким именно способом театр обновляется, оживает, открывая свою новую искренность. Так в начале 1990-х родился ни на кого не похожий театр Петра Наумовича Фоменко. За ним возникла «Студия театрального искусства» Сергея Женовача. В 2010-х годах начался новый всплеск рождения студийных театров. Именно студийность возвращает театр к его естественной природе. Сегодня говорят о горизонтальности театра, что по большому счету и есть суть организации настоящих театральных процессов, истинный театр всегда таким и был — местом, где нет главных и неглавных, где все равны и одинаково ценны.
Следите за «Июльансамблем»?
Мы постоянно общаемся, взаимодействуем, некоторые студийцы принимают участие в новых работах «Современника». Мне не хотелось быть руководителем этого молодого организма, есть наша общая Мастерская, и это важно, а уж «Июльансамбль» — это вотчина свободной самоорганизации молодых актеров. Я прихожу помогать, репетировать, общаться, делиться, но не руководить. В этом суть студии: все делать сообща, принимать решения вместе. Они свободнее и смелее нашего поколения, наблюдать и участвовать в этих процессах мне очень интересно. Спросите: согласен ли я со всем, что у них происходит? Конечно, нет, но ведь если бы я думал точно так же, как они, разве было бы дело?! Мир состоит из разных людей, в этом его уникальность. А научиться жить сообща и быть по-настоящему счастливыми вместе — серьезная цель. Мне кажется, обо всем этом я и снимал фильм.
основной конкурс
После неровной судьбы вашего фильма «Папа, сдохни» как вы решали, куда двигаться дальше и что снимать?
С фильмом «Папа, сдохни» и правда приключилась странная история: на Западе он привлек гораздо больше внимания, чем в России. Спустя год после своего незаметного проката он вдруг прогремел в интернете — очевидно, это было связано с успехом за рубежом. Мне, конечно, было очень приятно, но все равно хотелось сделать кино, которое сразу найдет больший отклик у соотечественников.
А какими средствами можно стать ближе нашей аудитории? Выбрать какую-то более понятную тему, жанр, киноязык?
Да, я думаю, здесь надо говорить о том, что понятнее. Этот мотив токсичной семьи, поколенческой кабалы, из которой сложно вырваться, зато можно унаследовать ошибки своих родителей, получить травмы, нанесенные под благими предлогами. Это ведь знакомо любому из нас, у каждого в семье случалось в разных масштабах. С этой мыслью я и подходил к созданию истории. А потом, новая картина более цельная с точки зрения повествовательного языка. Если фильм «Папа, сдохни» был таким постмодернистским калейдоскопом цитирований, то «Оторви и выбрось» — по крайней мере, мне так кажется — гораздо более сдержан. Впрочем, от себя не уйдешь, и там тоже порядочно отсылок.
Но подождите, разве новая картина не продолжает мотивы предыдущей? В обеих — безумные семейки, опять это жестокое отношение к тому, кто тебе роднее всего.
Да, но только отчасти. Возможно, все потому, что семья — очень удобная метафора, это маленькая иллюстрация социума или страны. Ну и тема семьи очень отзывается во мне — полагаю, она так же задевает и зрителя. У всех нас есть семьи, мы все понимаем, о чем идет речь. Но история «Оторви и выбрось» вдохновлена некоторыми событиями из жизни моей жены, актрисы Виктории Коротковой.
С фильмом «Папа, сдохни» и правда приключилась странная история: на Западе он привлек гораздо больше внимания, чем в России. Спустя год после своего незаметного проката он вдруг прогремел в интернете — очевидно, это было связано с успехом за рубежом. Мне, конечно, было очень приятно, но все равно хотелось сделать кино, которое сразу найдет больший отклик у соотечественников.
А какими средствами можно стать ближе нашей аудитории? Выбрать какую-то более понятную тему, жанр, киноязык?
Да, я думаю, здесь надо говорить о том, что понятнее. Этот мотив токсичной семьи, поколенческой кабалы, из которой сложно вырваться, зато можно унаследовать ошибки своих родителей, получить травмы, нанесенные под благими предлогами. Это ведь знакомо любому из нас, у каждого в семье случалось в разных масштабах. С этой мыслью я и подходил к созданию истории. А потом, новая картина более цельная с точки зрения повествовательного языка. Если фильм «Папа, сдохни» был таким постмодернистским калейдоскопом цитирований, то «Оторви и выбрось» — по крайней мере, мне так кажется — гораздо более сдержан. Впрочем, от себя не уйдешь, и там тоже порядочно отсылок.
Но подождите, разве новая картина не продолжает мотивы предыдущей? В обеих — безумные семейки, опять это жестокое отношение к тому, кто тебе роднее всего.
Да, но только отчасти. Возможно, все потому, что семья — очень удобная метафора, это маленькая иллюстрация социума или страны. Ну и тема семьи очень отзывается во мне — полагаю, она так же задевает и зрителя. У всех нас есть семьи, мы все понимаем, о чем идет речь. Но история «Оторви и выбрось» вдохновлена некоторыми событиями из жизни моей жены, актрисы Виктории Коротковой.
Читать дальше
У нее там все нормально закончилось?
(Смеется.) Ну, она выжила, выросла. Видите — в кино снимается.
Когда вышел фильм «Папа, сдохни», было очень много претензий к названию. «Оторви и выбрось» — это что-то про сепарацию?
(Смеется.) Нет, но название — это мой бич. С «Папа, сдохни» мы и правда ошиблись, хотя мне это название нравится до сих пор. Но оно оказалось слишком резким для отечественного зрителя. Когда ты делаешь фильм настолько пограничный по жанрам, очень сложно сформулировать название, которое бы и описывало его, и продавало. Хочется одновременно задать и драму, и комедию, и чтобы звучало дерзко. Не знаю, насколько удачный вариант мы придумали в этот раз, но надеюсь, он не будет так сильно раздражать, как «Папа, сдохни».
Вы везде говорите, что это фильм-погоня.
Да, опять же, так проще всего определить кино для зрителя, хотя там есть и большой пласт драмы, и много комедийного, вкрапления экшена, есть как жутковатые моменты, так и довольно трогательные. Мы все время меняем жанр, но не хотим, чтобы зритель попадал в ловушку — он пошел, допустим, на комедию, стал смотреть и подумал: «А где тут смеяться-то?» Поэтому — «фильм-погоня», а зритель уж сам разберется.
Сценарий фильма «Папа, сдохни» вы писали в плохом настроении после того, как не смогли запустить один из прежних проектов. В каком настрое создавался «Оторви и выбрось»?
В полном отчаянии. Это был как раз год между выходом «Папа, сдохни» и его запоздавшим успехом. Грубо говоря, фильм вышел в России и тут же канул в неизвестность. Честно, я пребывал в абсолютно раздавленном состоянии и думал, что на этом все. Как раз тогда мы познакомились с продюсером Артемом Васильевым и договорились делать «Оторви и выбрось», у меня уже были наработки. А год спустя вдруг возник этот всплеск интереса к фильму «Папа, сдохни», и полегчало. Так что было волнительно, тревожно, но, я так понимаю, для российского кинематографиста это нормальное состояние.
Кажется, что в «Оторви и выбрось» крови меньше, а юмора больше. Это сознательно?
И слава богу, что так кажется. Жанр черной комедии тяжело продается, и многие вещи людям кажутся оскорбительными. Поэтому «Оторви и выбрось» — попытка, с одной стороны, не изменять самому себе и своему пониманию того, что хорошо, а с другой стороны — воспринять опыт прошлого фильма и скорректировать свои действия. Если учесть, что у нас еще толком не было ни одного публичного показа, то не могу понять, насколько это удачный эксперимент. Может, это все большая ошибка — надо было закрыть глаза и идти до конца. А возможно, я себя обманываю: мне кажется, что я сгладил углы, а на самом деле все осталось так же резко. Но скоро узнаем.
(Смеется.) Ну, она выжила, выросла. Видите — в кино снимается.
Когда вышел фильм «Папа, сдохни», было очень много претензий к названию. «Оторви и выбрось» — это что-то про сепарацию?
(Смеется.) Нет, но название — это мой бич. С «Папа, сдохни» мы и правда ошиблись, хотя мне это название нравится до сих пор. Но оно оказалось слишком резким для отечественного зрителя. Когда ты делаешь фильм настолько пограничный по жанрам, очень сложно сформулировать название, которое бы и описывало его, и продавало. Хочется одновременно задать и драму, и комедию, и чтобы звучало дерзко. Не знаю, насколько удачный вариант мы придумали в этот раз, но надеюсь, он не будет так сильно раздражать, как «Папа, сдохни».
Вы везде говорите, что это фильм-погоня.
Да, опять же, так проще всего определить кино для зрителя, хотя там есть и большой пласт драмы, и много комедийного, вкрапления экшена, есть как жутковатые моменты, так и довольно трогательные. Мы все время меняем жанр, но не хотим, чтобы зритель попадал в ловушку — он пошел, допустим, на комедию, стал смотреть и подумал: «А где тут смеяться-то?» Поэтому — «фильм-погоня», а зритель уж сам разберется.
Сценарий фильма «Папа, сдохни» вы писали в плохом настроении после того, как не смогли запустить один из прежних проектов. В каком настрое создавался «Оторви и выбрось»?
В полном отчаянии. Это был как раз год между выходом «Папа, сдохни» и его запоздавшим успехом. Грубо говоря, фильм вышел в России и тут же канул в неизвестность. Честно, я пребывал в абсолютно раздавленном состоянии и думал, что на этом все. Как раз тогда мы познакомились с продюсером Артемом Васильевым и договорились делать «Оторви и выбрось», у меня уже были наработки. А год спустя вдруг возник этот всплеск интереса к фильму «Папа, сдохни», и полегчало. Так что было волнительно, тревожно, но, я так понимаю, для российского кинематографиста это нормальное состояние.
Кажется, что в «Оторви и выбрось» крови меньше, а юмора больше. Это сознательно?
И слава богу, что так кажется. Жанр черной комедии тяжело продается, и многие вещи людям кажутся оскорбительными. Поэтому «Оторви и выбрось» — попытка, с одной стороны, не изменять самому себе и своему пониманию того, что хорошо, а с другой стороны — воспринять опыт прошлого фильма и скорректировать свои действия. Если учесть, что у нас еще толком не было ни одного публичного показа, то не могу понять, насколько это удачный эксперимент. Может, это все большая ошибка — надо было закрыть глаза и идти до конца. А возможно, я себя обманываю: мне кажется, что я сгладил углы, а на самом деле все осталось так же резко. Но скоро узнаем.
Можете рассказать, как снимать фильм в лесу, чтобы при этом было разнообразие локаций?
Да, там много леса, но он очень разный. Дело в том, что природа в этом фильме — полноценный персонаж, характер и участник событий. Она является своего рода олицетворением внутреннего развития героев и меняется по пути их бегства к свободе. Когда поначалу героиня заходит в лес, то он плотный, типично сказочный, будто из книг братьев Гримм, давит со всех сторон. В процессе лес становится реже и светлее, появляются воздух и небо — это и говорит о состоянии свободы, которое обретают наши героини. А потом возникает открытое поле, где свободы очень много.
Вы на Волге снимали?
Да, мы объездили всю Тверскую область, снимали в Кимрах, затем в Подмосковье — процесс выбора локаций был довольно долгий. Важно было, чтобы природа олицетворяла свободу и гармонично между собой сочеталась при монтаже, место действия выглядело как маленький пятачок, чтобы не было заметно, как мы это все собирали по всей России.
Вы по-прежнему довольно эффектно снимаете сцены жестокости — брызги крови, лопающийся глаз. Какой у вас принцип работы с насилием на экране?
Мне нравится яркое, остросюжетное кино, которое удивляет, с неожиданными поворотами и даже шоковой терапией. Что касается насилия, то зависит, конечно, от задачи. Есть места, где оно используется для маркировки жанра и, скорее, работает как шутка. В духе трюковых гэгов Бастера Китона. А есть места, где оно взаправдашнее, драматичное и должно вызвать живую зрительскую реакцию. И в каждом случае свой подход.
В работе со звуком вам важен гротеск?
Опять же, все зависит от задач. Я очень люблю работать со звуком, и спасибо Насте Аносовой, нашему звукорежиссеру, за ее готовность экспериментировать. «Оторви и выбрось» можно было превратить и в «Похороните меня за плинтусом», сделать более приземленным, бытовым, драматичным. Но этот фильм не только затрагивает болезненные для нас темы, но и развлекает. Здесь все — звук и цвет, движение камеры — направлено на то, чтобы как раз от этого бытового повествования перейти в чуть более аттракционно-развлекательное.
Что из других фильмов на вас повлияло, что пересматривали?
Возможно, это не очевидный референс, но ключевой — это «Дикие сердцем» Дэвида Линча. Я это понял, когда уже дописал сценарий. По сути, там тоже есть погоня, маниакальная мать, которая преследует дочь. Еще понятно, что у нас есть вестерновские мотивы. Но, повторюсь, я старался сделать это кино более сдержанным и цельным, чтобы его меньше деконструировали, что ли, на референсы и первоисточники.
Да, там много леса, но он очень разный. Дело в том, что природа в этом фильме — полноценный персонаж, характер и участник событий. Она является своего рода олицетворением внутреннего развития героев и меняется по пути их бегства к свободе. Когда поначалу героиня заходит в лес, то он плотный, типично сказочный, будто из книг братьев Гримм, давит со всех сторон. В процессе лес становится реже и светлее, появляются воздух и небо — это и говорит о состоянии свободы, которое обретают наши героини. А потом возникает открытое поле, где свободы очень много.
Вы на Волге снимали?
Да, мы объездили всю Тверскую область, снимали в Кимрах, затем в Подмосковье — процесс выбора локаций был довольно долгий. Важно было, чтобы природа олицетворяла свободу и гармонично между собой сочеталась при монтаже, место действия выглядело как маленький пятачок, чтобы не было заметно, как мы это все собирали по всей России.
Вы по-прежнему довольно эффектно снимаете сцены жестокости — брызги крови, лопающийся глаз. Какой у вас принцип работы с насилием на экране?
Мне нравится яркое, остросюжетное кино, которое удивляет, с неожиданными поворотами и даже шоковой терапией. Что касается насилия, то зависит, конечно, от задачи. Есть места, где оно используется для маркировки жанра и, скорее, работает как шутка. В духе трюковых гэгов Бастера Китона. А есть места, где оно взаправдашнее, драматичное и должно вызвать живую зрительскую реакцию. И в каждом случае свой подход.
В работе со звуком вам важен гротеск?
Опять же, все зависит от задач. Я очень люблю работать со звуком, и спасибо Насте Аносовой, нашему звукорежиссеру, за ее готовность экспериментировать. «Оторви и выбрось» можно было превратить и в «Похороните меня за плинтусом», сделать более приземленным, бытовым, драматичным. Но этот фильм не только затрагивает болезненные для нас темы, но и развлекает. Здесь все — звук и цвет, движение камеры — направлено на то, чтобы как раз от этого бытового повествования перейти в чуть более аттракционно-развлекательное.
Что из других фильмов на вас повлияло, что пересматривали?
Возможно, это не очевидный референс, но ключевой — это «Дикие сердцем» Дэвида Линча. Я это понял, когда уже дописал сценарий. По сути, там тоже есть погоня, маниакальная мать, которая преследует дочь. Еще понятно, что у нас есть вестерновские мотивы. Но, повторюсь, я старался сделать это кино более сдержанным и цельным, чтобы его меньше деконструировали, что ли, на референсы и первоисточники.
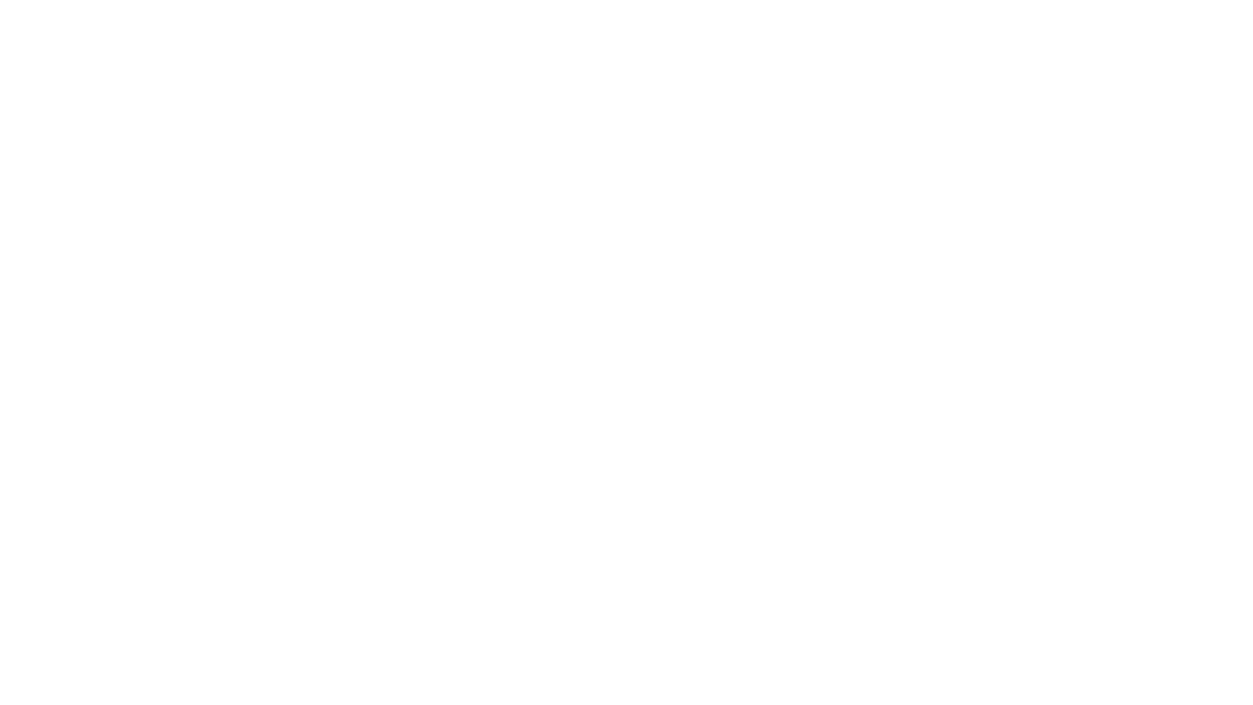
Делали ли вы раскадровку, которая так помогла вам в работе над дебютом?
Делал, и мы, несмотря на природу и переменчивую погоду, довольно четко двигались по раскадровке, очень тщательно под нее подбирали локации. Видите, с локациями какая штука: у нас не было бюджета на то, чтобы переделывать их полностью под себя — вырубать леса или высаживать деревья. При этом все равно хотелось выбрать места съемок так, чтобы они воспринимались достаточно кинематографично, чтобы совпадали с той условностью, в которой существуют герои и развивается сюжет. Если бы локации были более бытовыми, то все начало бы разваливаться. И здесь раскадровка нам очень помогла.
Давайте теперь про актеров. Вы говорили, что у вас каждый играет нетипичную для себя роль. Кажется, это то, о чем актеры мечтают.
Ну, под Вику Короткову я специально писал эту историю, мы с ней много обсуждали ее еще в процессе работы над сценарием, так что она там совершенно органично находится.
А вот актрису на роль бабушки я искал долго. У нас на пробах было много крутых актрис, которые делали это максимально убедительно, но получалось слишком прямолинейно. А хотелось найти человека, который в жизни был бы более легким и ироничным, сумел бы сохранить жанровость. К Ане Михалковой я пришел с ролью надзирательницы. Она прочитала сценарий и сказала: «Кирилл, слушайте, а мне очень бабуля понравилась». Я ответил: «Ань, но она старше и плохо выглядит». — «Нет-нет, давайте ее — мне очень интересно». Мы попробовали сразу парную сцену с Сашей Яценко, где ее героиня к нему домой приходит. И это было невероятно смешно и точно. Так с Аней и договорились — с одним условием, что мы ее сильно обезобразим. Мне кажется, это и правда нетипичная для нее роль, которой она отдалась с большим энтузиазмом. Она у нас самоотверженно кидалась в лужи крови, валялась на асфальте сутками.
Девочку сыграла Соня Кругова, и она просто чудо и подарок! Ей 10 лет, и она настолько работоспособна, что легко уделала на площадке взрослых, — у нее бесконечный заряд энергии. Это ее первый опыт в большом кино, а вообще, насколько я знаю, она поет в Академии Игоря Крутого, выступает в цирке «Аквамарин», кувыркается, на руках ходит — так что все трюки сама выполняла. А самое главное, нам с ней удалось создать характер, который был написан. Конечно, я очень переживал насчет того, как работать с ребенком в таком кино.
Она не спрашивала, почему это у вас там кровь брызжет, например?
Ну, она достаточно взрослая, все уже понимает. Наоборот, ее даже сдерживать иной раз приходилось.
Становится ли жанровое кино в России лучше?
Кажется, все становится лучше. И жанровое кино, и сериалы. Спасибо платформам, индустрия растет и развивается. И это здорово, что появляется возможность работать на разную аудиторию.
Вам-то не предлагают сериалы снимать?
Предлагают. Пока не получалось по времени, хотя несколько хороших проектов предлагали. Мы с Артемом Васильевым сейчас еще проекты планируем, так что кино в приоритете. И я держусь за эту возможность снимать фильмы. Пока она вообще есть, потому что, как я понимаю, с постепенным перемещением зрителя в интернет делать кино будет все тяжелее. А сериалов будет все больше, потому что это всем выгодно. Пока удается делать полуторачасовые высказывания, буду этим заниматься. Я на самом деле большой фанат походов в кино. Люблю, когда можно погрузиться в этот мир часа на полтора-два, получить свой катарсис, выйти из зала — подумать об увиденном, а потом перестать о нем думать.
В прошлом году вы приезжали на «Кинотавр» снимать фильм о самом фестивале для «КиноТВ». Зачем это было нужно?
(Смеется.) Это было весело. Мы с ребятами из «КиноТВ» постоянно обсуждаем разные совместные проекты. И вот придумали сделать такой фильм — обзор фестивальной жизни.
Мы смотрели и, разумеется, ждали, что сейчас пуля вылетит или у кого-то глаз лопнет. В каком жанре вы увидели прошлогодний «Кинотавр»?
(Смеется.) Честно — «Кинотавр» мне понравился. Эта общность продюсеров, режиссеров, актеров, журналистов, которые собираются в кафе. Возникло ощущение, что ты действительно попадаешь в пространство, где границы размыты, все — друзья и можно завести полезные знакомства, которые и правда изменят судьбу. Невероятно душевно! Это потом я узнал, что прошлый «Кинотавр» был не таким, как все. Были введены ограничения из-за пандемии, а обычно здесь все сегрегировано, отдельные шатры, свои компании и вечеринки. Посмотрим, что получится в этом году.
Делал, и мы, несмотря на природу и переменчивую погоду, довольно четко двигались по раскадровке, очень тщательно под нее подбирали локации. Видите, с локациями какая штука: у нас не было бюджета на то, чтобы переделывать их полностью под себя — вырубать леса или высаживать деревья. При этом все равно хотелось выбрать места съемок так, чтобы они воспринимались достаточно кинематографично, чтобы совпадали с той условностью, в которой существуют герои и развивается сюжет. Если бы локации были более бытовыми, то все начало бы разваливаться. И здесь раскадровка нам очень помогла.
Давайте теперь про актеров. Вы говорили, что у вас каждый играет нетипичную для себя роль. Кажется, это то, о чем актеры мечтают.
Ну, под Вику Короткову я специально писал эту историю, мы с ней много обсуждали ее еще в процессе работы над сценарием, так что она там совершенно органично находится.
А вот актрису на роль бабушки я искал долго. У нас на пробах было много крутых актрис, которые делали это максимально убедительно, но получалось слишком прямолинейно. А хотелось найти человека, который в жизни был бы более легким и ироничным, сумел бы сохранить жанровость. К Ане Михалковой я пришел с ролью надзирательницы. Она прочитала сценарий и сказала: «Кирилл, слушайте, а мне очень бабуля понравилась». Я ответил: «Ань, но она старше и плохо выглядит». — «Нет-нет, давайте ее — мне очень интересно». Мы попробовали сразу парную сцену с Сашей Яценко, где ее героиня к нему домой приходит. И это было невероятно смешно и точно. Так с Аней и договорились — с одним условием, что мы ее сильно обезобразим. Мне кажется, это и правда нетипичная для нее роль, которой она отдалась с большим энтузиазмом. Она у нас самоотверженно кидалась в лужи крови, валялась на асфальте сутками.
Девочку сыграла Соня Кругова, и она просто чудо и подарок! Ей 10 лет, и она настолько работоспособна, что легко уделала на площадке взрослых, — у нее бесконечный заряд энергии. Это ее первый опыт в большом кино, а вообще, насколько я знаю, она поет в Академии Игоря Крутого, выступает в цирке «Аквамарин», кувыркается, на руках ходит — так что все трюки сама выполняла. А самое главное, нам с ней удалось создать характер, который был написан. Конечно, я очень переживал насчет того, как работать с ребенком в таком кино.
Она не спрашивала, почему это у вас там кровь брызжет, например?
Ну, она достаточно взрослая, все уже понимает. Наоборот, ее даже сдерживать иной раз приходилось.
Становится ли жанровое кино в России лучше?
Кажется, все становится лучше. И жанровое кино, и сериалы. Спасибо платформам, индустрия растет и развивается. И это здорово, что появляется возможность работать на разную аудиторию.
Вам-то не предлагают сериалы снимать?
Предлагают. Пока не получалось по времени, хотя несколько хороших проектов предлагали. Мы с Артемом Васильевым сейчас еще проекты планируем, так что кино в приоритете. И я держусь за эту возможность снимать фильмы. Пока она вообще есть, потому что, как я понимаю, с постепенным перемещением зрителя в интернет делать кино будет все тяжелее. А сериалов будет все больше, потому что это всем выгодно. Пока удается делать полуторачасовые высказывания, буду этим заниматься. Я на самом деле большой фанат походов в кино. Люблю, когда можно погрузиться в этот мир часа на полтора-два, получить свой катарсис, выйти из зала — подумать об увиденном, а потом перестать о нем думать.
В прошлом году вы приезжали на «Кинотавр» снимать фильм о самом фестивале для «КиноТВ». Зачем это было нужно?
(Смеется.) Это было весело. Мы с ребятами из «КиноТВ» постоянно обсуждаем разные совместные проекты. И вот придумали сделать такой фильм — обзор фестивальной жизни.
Мы смотрели и, разумеется, ждали, что сейчас пуля вылетит или у кого-то глаз лопнет. В каком жанре вы увидели прошлогодний «Кинотавр»?
(Смеется.) Честно — «Кинотавр» мне понравился. Эта общность продюсеров, режиссеров, актеров, журналистов, которые собираются в кафе. Возникло ощущение, что ты действительно попадаешь в пространство, где границы размыты, все — друзья и можно завести полезные знакомства, которые и правда изменят судьбу. Невероятно душевно! Это потом я узнал, что прошлый «Кинотавр» был не таким, как все. Были введены ограничения из-за пандемии, а обычно здесь все сегрегировано, отдельные шатры, свои компании и вечеринки. Посмотрим, что получится в этом году.
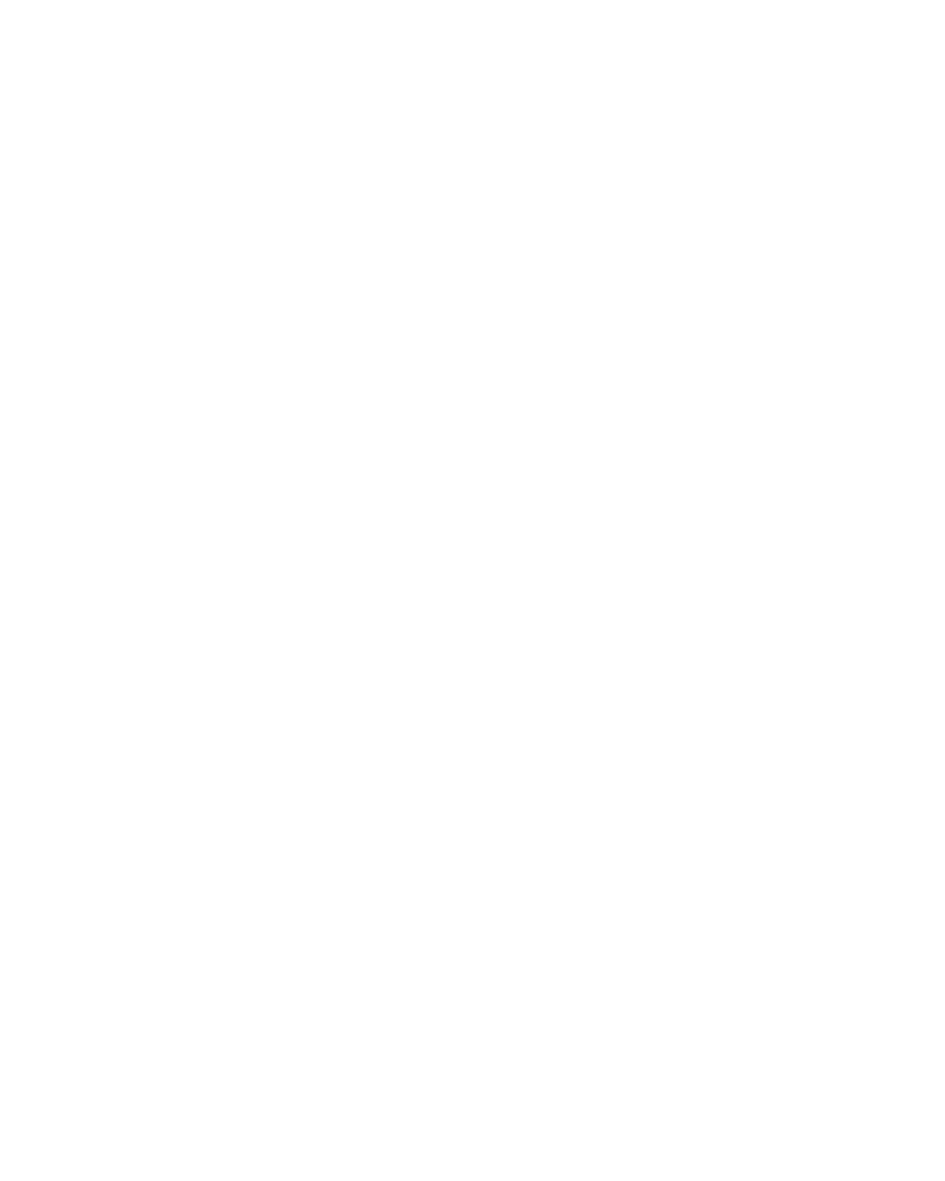
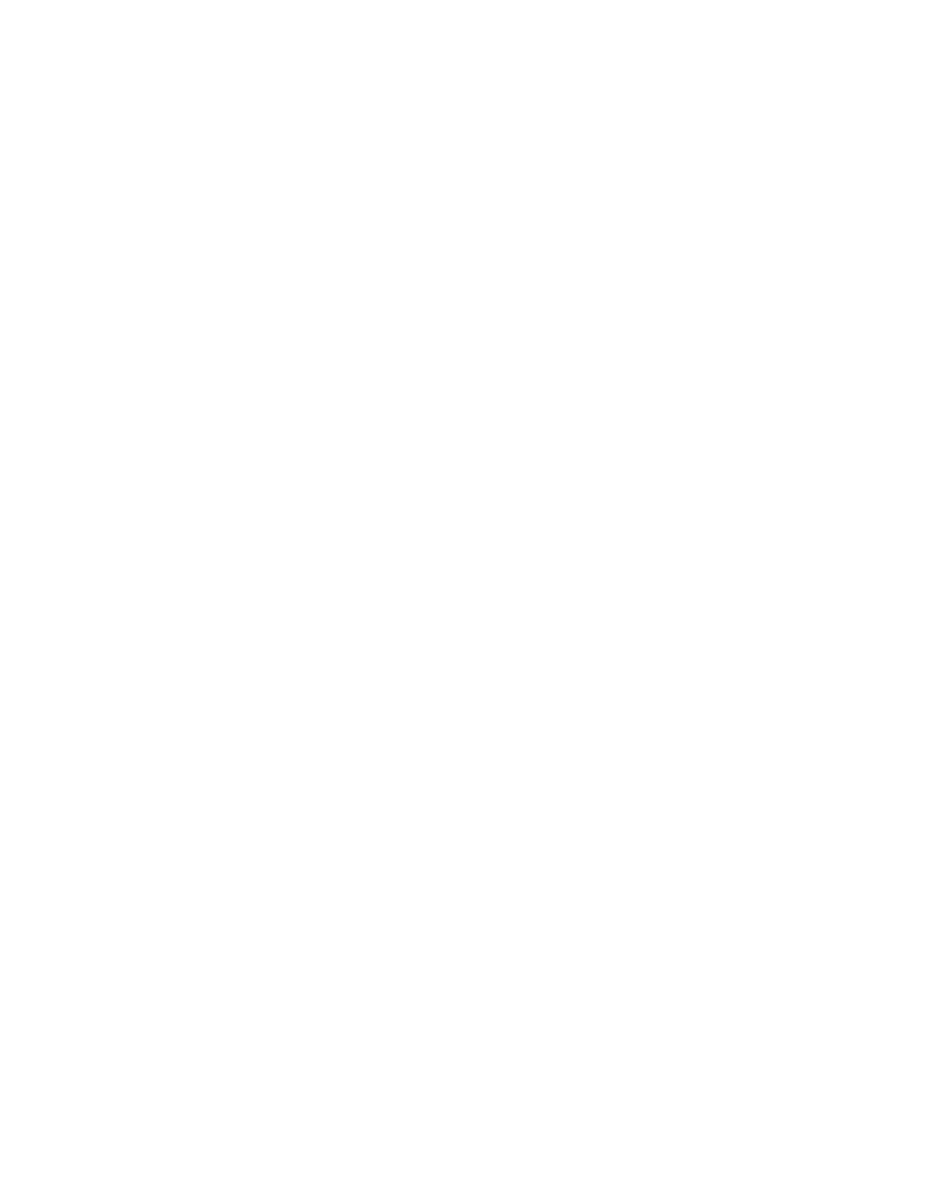
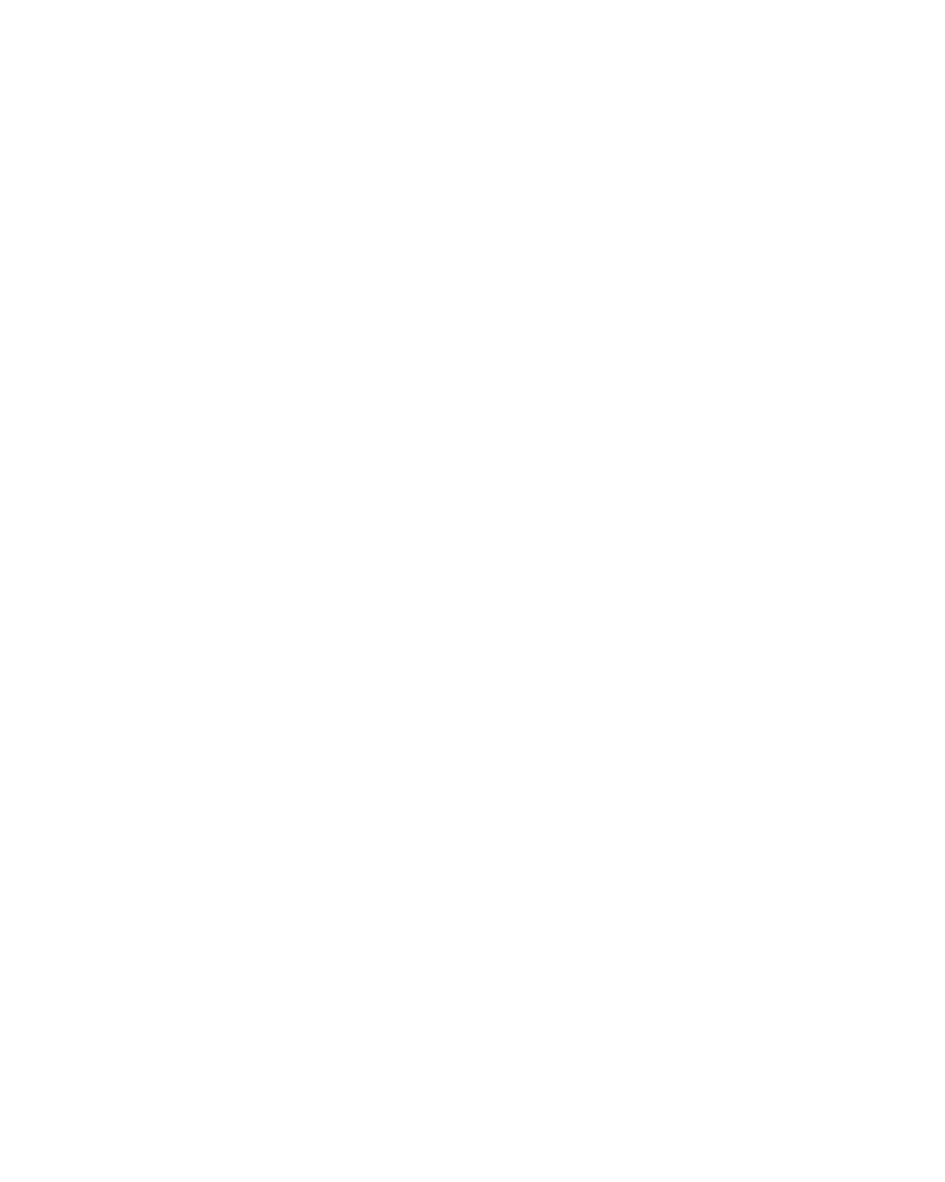
интервью
Сергей Сельянов
ОБЛАДАТЕЛЬ ПОЧЕТНОГО ПРИЗА
«ЗА УНИКАЛЬНОЕ ПРОДЮСЕРСКОЕ ЧУТЬЕ И ПОДДЕРЖКУ РОССИЙСКИХ ТАЛАНТОВ»
«ЗА УНИКАЛЬНОЕ ПРОДЮСЕРСКОЕ ЧУТЬЕ И ПОДДЕРЖКУ РОССИЙСКИХ ТАЛАНТОВ»
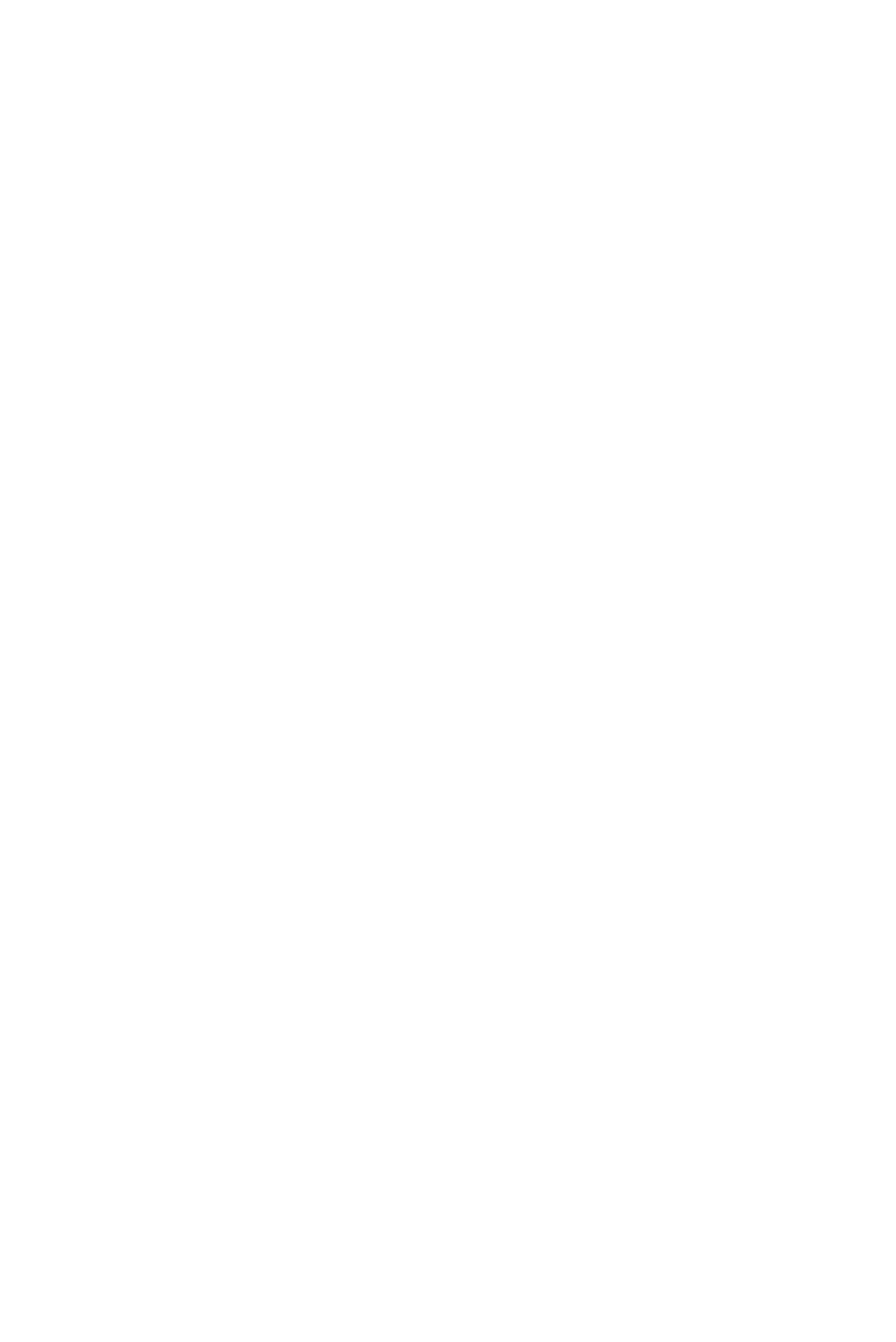
Формулировка вашего приза — «За уникальное продюсерское чутье и поддержку российских талантов».
Глупо комментировать определение в собственный адрес. Не знаю насчет уникального, но, наверное, чутье какое-то есть, раз студии скоро исполняется 30 лет. Я не статистик, но, кажется, на рынке осталось три-четыре компании, которые могли бы похвастаться таким сроком годности. Будем считать, что это о чем-то говорит.
Относительно новых талантов, эту часть мне прокомментировать легче. «Кинотавр» явно имеет в виду пристрастие нашей кинокомпании к дебютам. Я не раз с гордостью говорил, что мы, возможно, чемпионы мира по дебютам. В мире нет таких компаний, индустриальных, достаточно крупных, у которых дебютов — не меньше 35%, то есть из 10 полнометражных фильмов и мультфильмов три-четыре — дебюты. Я действительно это люблю, в том числе за утроенные риски — и ты сам, и режиссер-дебютант не знаете, чего от себя ожидать. И это всегда приключение. А когда все получается — это одна большая эмоция. У приличного количества заметных режиссеров первый фильм оказался лучшим в карьере.
Звучит как приговор.
Нет, дальше тоже все может идти хорошо. Режиссер матереет, все больше укрепляется в успехе. Просто в его дебютном фильме было что-то такое, что больше никогда не повторится. Бывают и трагические случаи: человек снимает первый фильм, он звучит, а потом все катится по наклонной. Дебют бывает только раз в жизни, и это почти мистическое, очень волнующее событие. У меня чисто физиологическая потребность быть причастным к этому. Это особая энергия, режиссер вычерпывает себя до дна, если, конечно, он настоящий, ответственный перед собой и перед своим талантом. И индустриально это очень важно, чтобы продюсеры, люди, которые сами состоялись, помогали тем, кто делает первый шаг. Даже без высоких фраз, чисто в производственном плане нужна свежая кровь, хорошие режиссеры. А без первого фильма непонятно, каков он. И отрицательный результат в этом смысле тоже результат. Хоть это и печальная новость для дебютанта, у которого появляется своя визитная карточка.
Разве такой карточкой не являются короткометражки?
Разница между короткометражным и полнометражным фильмами гораздо глубже, чем может показаться на первый взгляд. Это абсолютно разные типы высказывания, и живут они по-разному. В этом кроется индустриальная проблема, которую не место здесь анализировать. Короткометражных картин в стране делается все больше, во многом благодаря тому, что снимать их стало неизмеримо легче, чем когда-либо, — в технологическом и организационном смысле. И это радует. Но из неисчислимого отряда людей, их делающих, сущие единички потом выходят на полный метр. И я не говорю про удачный или неудачный, а просто способных придумать что-то полнометражное — единицы. Все вроде в твоих руках: ты сделал короткометражку, что-то почувствовал, тебе даже приз дали, проехался по фестивалям, а теперь давай, делай следующий шаг — и он оказывается очень сложным.
Глупо комментировать определение в собственный адрес. Не знаю насчет уникального, но, наверное, чутье какое-то есть, раз студии скоро исполняется 30 лет. Я не статистик, но, кажется, на рынке осталось три-четыре компании, которые могли бы похвастаться таким сроком годности. Будем считать, что это о чем-то говорит.
Относительно новых талантов, эту часть мне прокомментировать легче. «Кинотавр» явно имеет в виду пристрастие нашей кинокомпании к дебютам. Я не раз с гордостью говорил, что мы, возможно, чемпионы мира по дебютам. В мире нет таких компаний, индустриальных, достаточно крупных, у которых дебютов — не меньше 35%, то есть из 10 полнометражных фильмов и мультфильмов три-четыре — дебюты. Я действительно это люблю, в том числе за утроенные риски — и ты сам, и режиссер-дебютант не знаете, чего от себя ожидать. И это всегда приключение. А когда все получается — это одна большая эмоция. У приличного количества заметных режиссеров первый фильм оказался лучшим в карьере.
Звучит как приговор.
Нет, дальше тоже все может идти хорошо. Режиссер матереет, все больше укрепляется в успехе. Просто в его дебютном фильме было что-то такое, что больше никогда не повторится. Бывают и трагические случаи: человек снимает первый фильм, он звучит, а потом все катится по наклонной. Дебют бывает только раз в жизни, и это почти мистическое, очень волнующее событие. У меня чисто физиологическая потребность быть причастным к этому. Это особая энергия, режиссер вычерпывает себя до дна, если, конечно, он настоящий, ответственный перед собой и перед своим талантом. И индустриально это очень важно, чтобы продюсеры, люди, которые сами состоялись, помогали тем, кто делает первый шаг. Даже без высоких фраз, чисто в производственном плане нужна свежая кровь, хорошие режиссеры. А без первого фильма непонятно, каков он. И отрицательный результат в этом смысле тоже результат. Хоть это и печальная новость для дебютанта, у которого появляется своя визитная карточка.
Разве такой карточкой не являются короткометражки?
Разница между короткометражным и полнометражным фильмами гораздо глубже, чем может показаться на первый взгляд. Это абсолютно разные типы высказывания, и живут они по-разному. В этом кроется индустриальная проблема, которую не место здесь анализировать. Короткометражных картин в стране делается все больше, во многом благодаря тому, что снимать их стало неизмеримо легче, чем когда-либо, — в технологическом и организационном смысле. И это радует. Но из неисчислимого отряда людей, их делающих, сущие единички потом выходят на полный метр. И я не говорю про удачный или неудачный, а просто способных придумать что-то полнометражное — единицы. Все вроде в твоих руках: ты сделал короткометражку, что-то почувствовал, тебе даже приз дали, проехался по фестивалям, а теперь давай, делай следующий шаг — и он оказывается очень сложным.
Читать дальше
Но очевидно же, что наличие этих полнометражных дебютов связано с тем, позвонили ли вы им после того, как они прислали свои сценарии вам на студию, или нет.
В компанию «СТВ» поступает 1500 сценариев в год. Как говорят американцы, это наша работа, мы искренне хотим выловить и выискать из них что-нибудь стоящее. Но написать хороший сценарий очень сложно. Большинство дебютов — авторские, не жанровые работы. Если человек собирается работать в авторском кино, предполагается, что он и есть автор истории. Одна из самых сложных проблем — найти режиссера под авторский сценарий. Настоящий автор чаще всего пишет сценарий сам или плотно работает со сценаристом, меняя текст под себя.
Он же может также выступать как нанятый работник!
Есть принципиальная разница между продюсерским и авторским кино. В первом очень многое определяет продюсер, в авторском ровно наоборот — автор. Чтобы предложить дебютанту дорогостоящий зрительский проект, у него должен быть опыт. Например, дебютант должен поработать в рекламе, причем успешно. В рекламном бизнесе жесткая производственная дисциплина, очень большой инструментарий, единственное, работа с актером — всегда вопрос. Актеры в рекламе всегда некие статисты, и даже когда вы снимаете популярного актера, он выполняет, как правило, совершенно отличные от кино задачи. И все-таки для режиссеров, успешно снимающих рекламу, открыты двери в зрительское кино.
Опять же, зрительские фильмы — это почти всегда большой бюджет. Допустим, я понимаю, что режиссер справится творчески, но вот мускулатуры сугубо производственной ему может и не хватить. Режиссер ведь — не только творческая профессия, но еще и ответственность за 300−600 млн рублей, за то, как ими грамотно распорядиться. А иначе — нерациональные расходы, всякие косяки, в которых он вроде как без вины, но виноват. Все это большие риски. Но иногда решение о запуске принимается с людьми, у которых нет в багаже короткометражки или рекламы, но с которыми есть некое продолжительное общение. Потому что можно угадать режиссера, даже если у него ничего нет за плечами, если ты с ним долго общаешься и что-то чувствуешь про него. Так у меня было с Сережей Бодровым, так сейчас с Лешей Чадовым, у которого в ноябре выйдет дебютная картина «Своя война». Но он прошел тестовое задание. Я сказал, как часто говорю: «Ты хочешь быть режиссером — вот тебе деньги на два съемочных дня. У тебя две сцены: одна — камерная, лирическая, другая — объемная, снимай так, как это будет в фильме». Он это сделал, и очень хорошо, но я и без теста понимал, что он — режиссер. Мы долго дорабатывали сценарий, а по сценарию сразу видно, кто его пишет — литератор или кинематографист. Когда человек способен ответить на вопрос, как это будет снято, это уже многое объясняет.
Насколько вы дисциплинируете режиссеров в плане бюджетов?
Бюджет фильма — это закон, и нарушать его нельзя. Вот и все. Ситуация, когда режиссер уже во время съемок увлекся и превысил бюджет в полтора раза, конечно, встречается в мировом кинематографе, но это, скорее, редкое исключение. Да, бывают такие гении в кавычках или без. Если речь идет о по-настоящему выдающемся режиссере, даже снимающем свою первую картину, то мы выходим за рамки business as usual и начинаем с этим как-то соотноситься.
В компанию «СТВ» поступает 1500 сценариев в год. Как говорят американцы, это наша работа, мы искренне хотим выловить и выискать из них что-нибудь стоящее. Но написать хороший сценарий очень сложно. Большинство дебютов — авторские, не жанровые работы. Если человек собирается работать в авторском кино, предполагается, что он и есть автор истории. Одна из самых сложных проблем — найти режиссера под авторский сценарий. Настоящий автор чаще всего пишет сценарий сам или плотно работает со сценаристом, меняя текст под себя.
Он же может также выступать как нанятый работник!
Есть принципиальная разница между продюсерским и авторским кино. В первом очень многое определяет продюсер, в авторском ровно наоборот — автор. Чтобы предложить дебютанту дорогостоящий зрительский проект, у него должен быть опыт. Например, дебютант должен поработать в рекламе, причем успешно. В рекламном бизнесе жесткая производственная дисциплина, очень большой инструментарий, единственное, работа с актером — всегда вопрос. Актеры в рекламе всегда некие статисты, и даже когда вы снимаете популярного актера, он выполняет, как правило, совершенно отличные от кино задачи. И все-таки для режиссеров, успешно снимающих рекламу, открыты двери в зрительское кино.
Опять же, зрительские фильмы — это почти всегда большой бюджет. Допустим, я понимаю, что режиссер справится творчески, но вот мускулатуры сугубо производственной ему может и не хватить. Режиссер ведь — не только творческая профессия, но еще и ответственность за 300−600 млн рублей, за то, как ими грамотно распорядиться. А иначе — нерациональные расходы, всякие косяки, в которых он вроде как без вины, но виноват. Все это большие риски. Но иногда решение о запуске принимается с людьми, у которых нет в багаже короткометражки или рекламы, но с которыми есть некое продолжительное общение. Потому что можно угадать режиссера, даже если у него ничего нет за плечами, если ты с ним долго общаешься и что-то чувствуешь про него. Так у меня было с Сережей Бодровым, так сейчас с Лешей Чадовым, у которого в ноябре выйдет дебютная картина «Своя война». Но он прошел тестовое задание. Я сказал, как часто говорю: «Ты хочешь быть режиссером — вот тебе деньги на два съемочных дня. У тебя две сцены: одна — камерная, лирическая, другая — объемная, снимай так, как это будет в фильме». Он это сделал, и очень хорошо, но я и без теста понимал, что он — режиссер. Мы долго дорабатывали сценарий, а по сценарию сразу видно, кто его пишет — литератор или кинематографист. Когда человек способен ответить на вопрос, как это будет снято, это уже многое объясняет.
Насколько вы дисциплинируете режиссеров в плане бюджетов?
Бюджет фильма — это закон, и нарушать его нельзя. Вот и все. Ситуация, когда режиссер уже во время съемок увлекся и превысил бюджет в полтора раза, конечно, встречается в мировом кинематографе, но это, скорее, редкое исключение. Да, бывают такие гении в кавычках или без. Если речь идет о по-настоящему выдающемся режиссере, даже снимающем свою первую картину, то мы выходим за рамки business as usual и начинаем с этим как-то соотноситься.
Можно угадать режиссера, даже если у него ничего нет за плечами, если ты с ним долго общаешься и что-то чувствуешь про него
Пример можете вспомнить?
Могу — Сережа Дворцевой. Первый его игровой фильм «Тюльпан». В свое время он взял главный приз в программе Канна «Особый взгляд». Изначально это был не мой проект, ко мне обратился немецкий продюсер Карл Баумгартнер. Он позвонил, сказал, что есть проект с известным документалистом Дворцевым с участием продюсера Сергея Мелькумова, и попросил помочь. Мы тогда с Дворцевым знакомы не были. И вот он входит ко мне и говорит, мол, кончились деньги, среди главных героев есть дети, и если мы не снимем сейчас, то через полгода они вырастут и все пойдет крахом. С детьми так бывает.
Кстати, у Германа-старшего была похожая ситуация. И он вообще идеальный пример такого режиссера, о котором вы спрашиваете. В фильме «Хрусталев, машину!» у него была уже снята главная детская роль, а спустя время он захотел с этим мальчиком что-то переснять. Попросил привезти ребенка, а это был сын моего старого ВГИК-овского товарища Андрея Дементьева. Так вот, приехал Андрей с неким молодым человеком. Герман спрашивает: «А где сын-то твой?» А тот отвечает: «Да вот он!» «Мальчик» за это время вырос примерно в два раза. И даже Герман с его железной волей в осуществлении своих творческих задач понял, что тут уже все, ничего не поделаешь.
Возвращаясь к Дворцевому. Я посмотрел материал и понял, что это действительно талантливо. А надо было 100 тысяч долларов. Я спросил: «Карл, у тебя что, нет 100 тысяч долларов, я тут вообще при чем?» А он ответил: «Нет». Я сказал: «Хорошо». А сам параллельно узнал, как было дело. Оказывается, Дворцевой поехал снимать кино, продюсер был в полной уверенности, что он снимал кино, и Дворцевой действительно его снимал, но… это все был большой тест. То есть кино, снятое на полупрофессиональную камеру, черновик, чтобы во всем разобраться, а уже потом снять начисто. Кстати, Чарли Чаплин тоже переснимал свои фильмы, правда, он в то время был уже сам себе хозяин. И у Андрея Тарковского со «Сталкером» была похожая ситуация. Стало ясно, что мои 100 тысяч долларов помогут, но не спасут. Фильм снимался в Казахстане, я помог найти Гульнару Сарсенову, с ней мы делали «Монгола», попросил ее помочь завершить картину. И Дворцевой поехал туда доснимать уже финальное кино.
Но здесь главное, что это был серьезный художник, и он любой ценой хотел добиться идеального результата. А я люблю фанатиков в нашем деле. Работать с ними очень трудно, для продюсера вообще некомфортна позиция обслуживания режиссера. Между режиссером и продюсером должен быть творческий диалог, они должны не слушаться друг друга, а слышать друг друга. Иначе неинтересно. Типа ты ничего не делаешь, ты просто дал денег хорошему режиссеру с таким расчетом, что это выстрелит, и ты будешь купаться в лучах славы.
Кажется, что если продюсер работает с дебютантом, то он рассчитывает, что это начало каких-то длительных отношений. Что вы чувствуете, когда со второго или третьего фильма этот режиссер начинает работать с другими продюсерами?
Одна из задач продюсера — ввести режиссера в индустриальный оборот. Конечно, всегда хочется продолжать работать. Но, во-первых, далеко не каждый дебют успешен. Во-вторых, ключевое слово в наших отношениях — «фильм». И здесь есть другая опасность, которую надо избегать: личные человеческие и профессиональные отношения не должны мешать трезво оценивать очередной проект. Грубо говоря, если мы с каким-то абстрактным режиссером сделали четыре превосходных фильма и отношения у нас сложились отличные, и работали мы душа в душу, а потом он приходит со сценарием пятой картины, и это что-то с чем-то, то ответ должен быть: «Нет». Смотреть нужно всегда только на проект, он управляет и продюсером, и режиссером. И никогда не стоит поддаваться на человеческое и вестись на слабый проект.
Скажем, почему я иногда предпочитаю дебютантов опытным режиссерам? От опытного режиссера (не выдающегося, с ними-то всегда хочется работать) ясно, чего ожидать. Да, он снимет хорошее кино, но хочется-то ведь великолепного, крутого, неожиданного! А с дебютом — по-другому, там вообще не знаешь, чего ждать. И такая ситуация: сделали нормальный первый фильм, не супер, но после него режиссер уже в индустрии, будет дальше работать. И что? Только из-за того, что мы вместе неплохо дебютировали, мне на автомате продолжать делать с ним такие же фильмы, вроде хорошие? Неинтересно. Поэтому я никогда никого не обязываю, мол, смотри, чтобы со вторым фильмом обязательно ко мне. И потом, я считаю, что кино — это край свободной охоты. Когда я был кинолюбителем, у меня был старший товарищ, руководитель Юра Жуков. И когда я сказал ему: «Юра, пожалуй, я созрел, пойду-ка я поступать во ВГИК», было ясно, что для него это удар. Он лишался бойца. Но он с таким энтузиазмом начал мне помогать, у него даже тени сомнения не мелькнуло поступить иначе!
То есть вы никого не держите?
Практика привязывания режиссера или актера к конкретной компании мне не близка. Мне кажется, здесь велика опасность деградации. Очень трудно поддерживать форму вне конкурентного поля. Продюсер, режиссер, актер — профессии очень амбициозные. А амбиции и подогреваются соревнованием, в которое ты вступаешь — и погнал на длинную дистанцию. Все это требует огромной энергии, вкладываться надо очень здорово в каждый следующий шаг, и никакие успехи в прошлом не гарантируют успеха в будущем. Конечно, есть понятные плюсы в этой практике. И если условия привязывания свободные, разумные, без каких-то жесточайших ограничений, то это еще имеет право на существование. Но если ты оказался в таком теплом месте, то есть риск и притормозить, и расслабиться.
Могу — Сережа Дворцевой. Первый его игровой фильм «Тюльпан». В свое время он взял главный приз в программе Канна «Особый взгляд». Изначально это был не мой проект, ко мне обратился немецкий продюсер Карл Баумгартнер. Он позвонил, сказал, что есть проект с известным документалистом Дворцевым с участием продюсера Сергея Мелькумова, и попросил помочь. Мы тогда с Дворцевым знакомы не были. И вот он входит ко мне и говорит, мол, кончились деньги, среди главных героев есть дети, и если мы не снимем сейчас, то через полгода они вырастут и все пойдет крахом. С детьми так бывает.
Кстати, у Германа-старшего была похожая ситуация. И он вообще идеальный пример такого режиссера, о котором вы спрашиваете. В фильме «Хрусталев, машину!» у него была уже снята главная детская роль, а спустя время он захотел с этим мальчиком что-то переснять. Попросил привезти ребенка, а это был сын моего старого ВГИК-овского товарища Андрея Дементьева. Так вот, приехал Андрей с неким молодым человеком. Герман спрашивает: «А где сын-то твой?» А тот отвечает: «Да вот он!» «Мальчик» за это время вырос примерно в два раза. И даже Герман с его железной волей в осуществлении своих творческих задач понял, что тут уже все, ничего не поделаешь.
Возвращаясь к Дворцевому. Я посмотрел материал и понял, что это действительно талантливо. А надо было 100 тысяч долларов. Я спросил: «Карл, у тебя что, нет 100 тысяч долларов, я тут вообще при чем?» А он ответил: «Нет». Я сказал: «Хорошо». А сам параллельно узнал, как было дело. Оказывается, Дворцевой поехал снимать кино, продюсер был в полной уверенности, что он снимал кино, и Дворцевой действительно его снимал, но… это все был большой тест. То есть кино, снятое на полупрофессиональную камеру, черновик, чтобы во всем разобраться, а уже потом снять начисто. Кстати, Чарли Чаплин тоже переснимал свои фильмы, правда, он в то время был уже сам себе хозяин. И у Андрея Тарковского со «Сталкером» была похожая ситуация. Стало ясно, что мои 100 тысяч долларов помогут, но не спасут. Фильм снимался в Казахстане, я помог найти Гульнару Сарсенову, с ней мы делали «Монгола», попросил ее помочь завершить картину. И Дворцевой поехал туда доснимать уже финальное кино.
Но здесь главное, что это был серьезный художник, и он любой ценой хотел добиться идеального результата. А я люблю фанатиков в нашем деле. Работать с ними очень трудно, для продюсера вообще некомфортна позиция обслуживания режиссера. Между режиссером и продюсером должен быть творческий диалог, они должны не слушаться друг друга, а слышать друг друга. Иначе неинтересно. Типа ты ничего не делаешь, ты просто дал денег хорошему режиссеру с таким расчетом, что это выстрелит, и ты будешь купаться в лучах славы.
Кажется, что если продюсер работает с дебютантом, то он рассчитывает, что это начало каких-то длительных отношений. Что вы чувствуете, когда со второго или третьего фильма этот режиссер начинает работать с другими продюсерами?
Одна из задач продюсера — ввести режиссера в индустриальный оборот. Конечно, всегда хочется продолжать работать. Но, во-первых, далеко не каждый дебют успешен. Во-вторых, ключевое слово в наших отношениях — «фильм». И здесь есть другая опасность, которую надо избегать: личные человеческие и профессиональные отношения не должны мешать трезво оценивать очередной проект. Грубо говоря, если мы с каким-то абстрактным режиссером сделали четыре превосходных фильма и отношения у нас сложились отличные, и работали мы душа в душу, а потом он приходит со сценарием пятой картины, и это что-то с чем-то, то ответ должен быть: «Нет». Смотреть нужно всегда только на проект, он управляет и продюсером, и режиссером. И никогда не стоит поддаваться на человеческое и вестись на слабый проект.
Скажем, почему я иногда предпочитаю дебютантов опытным режиссерам? От опытного режиссера (не выдающегося, с ними-то всегда хочется работать) ясно, чего ожидать. Да, он снимет хорошее кино, но хочется-то ведь великолепного, крутого, неожиданного! А с дебютом — по-другому, там вообще не знаешь, чего ждать. И такая ситуация: сделали нормальный первый фильм, не супер, но после него режиссер уже в индустрии, будет дальше работать. И что? Только из-за того, что мы вместе неплохо дебютировали, мне на автомате продолжать делать с ним такие же фильмы, вроде хорошие? Неинтересно. Поэтому я никогда никого не обязываю, мол, смотри, чтобы со вторым фильмом обязательно ко мне. И потом, я считаю, что кино — это край свободной охоты. Когда я был кинолюбителем, у меня был старший товарищ, руководитель Юра Жуков. И когда я сказал ему: «Юра, пожалуй, я созрел, пойду-ка я поступать во ВГИК», было ясно, что для него это удар. Он лишался бойца. Но он с таким энтузиазмом начал мне помогать, у него даже тени сомнения не мелькнуло поступить иначе!
То есть вы никого не держите?
Практика привязывания режиссера или актера к конкретной компании мне не близка. Мне кажется, здесь велика опасность деградации. Очень трудно поддерживать форму вне конкурентного поля. Продюсер, режиссер, актер — профессии очень амбициозные. А амбиции и подогреваются соревнованием, в которое ты вступаешь — и погнал на длинную дистанцию. Все это требует огромной энергии, вкладываться надо очень здорово в каждый следующий шаг, и никакие успехи в прошлом не гарантируют успеха в будущем. Конечно, есть понятные плюсы в этой практике. И если условия привязывания свободные, разумные, без каких-то жесточайших ограничений, то это еще имеет право на существование. Но если ты оказался в таком теплом месте, то есть риск и притормозить, и расслабиться.
Только из-за того, что мы вместе неплохо дебютировали, мне на автомате продолжать делать с этим режиссером такие же фильмы, вроде хорошие? Неинтересно
Мераб Мамардашвили говорил, что самое сложное для человека — определить точку, где он сейчас находится, а дальше понять, куда он держит путь. Как бы вы для себя определили, в какой точке вы сейчас и каков вектор вашего направления?
Мамардашвили был художник и мог по-разному высказываться в разных обстоятельствах. Хотя философия — дисциплина строгая, но при этом свободная. Мне ближе другое его размышление. Когда он читал нам лекции во ВГИКе, я очень хорошо запомнил и, главное, понял такую фразу: «Только пройдя путь, ты можешь понять, чего ты хотел на самом деле». Все твои установки — всего лишь то, что ты хочешь сегодня. И только когда ты пройдешь весь путь, то поймешь, куда ты действительно шел, куда привела тебя судьба. А так попробуй найти точку, чего-то там осознать прямо сейчас. Мы начали с вами с разговора про чутье. Так вот, в кино много иррационального, для чего нужна интуиция. Каждый следующий шаг делается на ощупь. Ты живешь в этой среде, в узком смысле — в рыночной, в широком — в мировой ноосфере, которая на тебя все время воздействует. И просчитать все это невозможно.
Но есть же какие-то очевидные вещи! Например, вы отказались от того, чтобы заниматься прокатом фильмов, передоверив их другой компании, то есть освободили себе время для другой деятельности. Вы явно пока с легкой осторожностью относитесь к онлайн-платформам и производству контента для них. Кажется, что от блокбастеров вы снова смещаетесь к арт-мейнстримовым проектам.
30 лет назад, когда была создана кинокомпания «СТВ», журнал «Сеанс» в лице Любы Аркус брал у меня интервью. И она спросила, какое у меня кредо. Пусть расцветают сто цветов, ответил я. И вторым моим тезисом было: опора на собственные силы. Я так и живу. Я занимаюсь разными вещами — и анимацией, и большими фильмами, и маленькими зрительскими, и дебютами, и авторскими, и даже синефильскими проектами, которые вообще мало кому нужны, а мне вот нужны. Единственное — проекты сериалов меня пока не возбуждают. Понятно, что в рыночном смысле эта ниша овладела массами, и это прекрасно, если огромному количеству зрителей нравится в качестве досуга сидеть и смотреть по восемь серий. Но если чисто профессионально, то это все, как правило, за два часа легко можно рассказать. Горизонтальные сериалы имею в виду. Мне всегда хочется такое сократить. Хотя мы все равно выпускаем и сериалы, и анимационные сериалы. Поляна широкая, и все это мне интересно. Хочу ответить на этот вызов времени и сделать сериал «всех времен и народов». И большие фильмы мы все равно готовим. Их создание — настоящее приключение. А какие риски! Сергей Бодров — старший, когда мы делали «Монгола», привел простое, но убедительное сравнение. Мне оно понравилось, и я его иногда цитирую. Когда после обычного фильма ты делаешь фильм с большим бюджетом, это не то же самое, что пересесть из «запорожца» в «мерседес», это все равно как пересесть из автомобиля в истребитель. Это другой вид деятельности, а не просто кино, которое дороже.
Освободить время от прокатной компании — это да. Потому что времени всегда не хватает. Мы очень хорошо работаем с Sony. Прокат — очень азартный вид деятельности, смесь покера и преферанса, но нельзя объять необъятное. В свое время мы начали заниматься прокатом не потому, что я считал, что и тут все вопросы решу, а потому что прокатчики в начале 2000-х не были готовы прокатывать все фильмы кинокомпании «СТВ». То есть чего послаще — пожалуйста, а мне надо было всем моим фильмам дать жизнь, это была моя обязанность как продюсера. Не только произвести фильм, но и выпустить его в мир. И пришлось самому. И для меня это была немножко вынужденная история, хотя, повторюсь, очень увлекательная.
Какие сейчас планы на ближайшее время?
Кино по большей части делается спинным мозгом, некоторые говорят — животом. Можно, конечно, задать себе бизнес-стратегию, ориентированную только на зарабатывание денег. Например, будем делать комедии, они недорогие и хорошо идут. Или наладить системное производство ужастиков, мол, по три штуки в год будем выпускать, поставим это на поток. Это рабочая концепция. Но с моей — про сто цветов — она не совпадает. Вот, например, я всегда хотел делать сказки. Я еще в 1990-х годах сочинял их, в тетрадке что-то писал и понимал, что это невозможно, потому что это самый дорогой вид кино. Кино для детей — самое дорогое в мире. Потом с Сергеем Овчаровым примерно в 2003 году мы обсуждали проект «Конек-Горбунок». Но откуда тогда было взять 3 млн долларов, чтобы сделать сказку с графикой, которой еще практически не было, и с большими декорационными работами, даже навыки создания чего-то подобного к тому времени были потеряны. Вот время пришло, и недавно сделали-таки «Конька». И я с удовольствием еще какую-нибудь сказку сделаю. Но очень трудно написать хороший сценарий и очень трудно снять хороший фильм, особенно для детей. И это трудно везде — не только в России, но и в Америке, где производят до 800 фильмов в год, а мировую кассу из них делают фильмов 20−25. И это в Америке с ее колоссальным опытом и лучшими сотрудниками со всего мира. Поэтому иногда наше сильное желание сделать что-то шикарное наталкивается на то, что мозгов попросту не хватает. Вот это — проблема. Не хватает мозгов. Остальное не так сложно.
Мамардашвили был художник и мог по-разному высказываться в разных обстоятельствах. Хотя философия — дисциплина строгая, но при этом свободная. Мне ближе другое его размышление. Когда он читал нам лекции во ВГИКе, я очень хорошо запомнил и, главное, понял такую фразу: «Только пройдя путь, ты можешь понять, чего ты хотел на самом деле». Все твои установки — всего лишь то, что ты хочешь сегодня. И только когда ты пройдешь весь путь, то поймешь, куда ты действительно шел, куда привела тебя судьба. А так попробуй найти точку, чего-то там осознать прямо сейчас. Мы начали с вами с разговора про чутье. Так вот, в кино много иррационального, для чего нужна интуиция. Каждый следующий шаг делается на ощупь. Ты живешь в этой среде, в узком смысле — в рыночной, в широком — в мировой ноосфере, которая на тебя все время воздействует. И просчитать все это невозможно.
Но есть же какие-то очевидные вещи! Например, вы отказались от того, чтобы заниматься прокатом фильмов, передоверив их другой компании, то есть освободили себе время для другой деятельности. Вы явно пока с легкой осторожностью относитесь к онлайн-платформам и производству контента для них. Кажется, что от блокбастеров вы снова смещаетесь к арт-мейнстримовым проектам.
30 лет назад, когда была создана кинокомпания «СТВ», журнал «Сеанс» в лице Любы Аркус брал у меня интервью. И она спросила, какое у меня кредо. Пусть расцветают сто цветов, ответил я. И вторым моим тезисом было: опора на собственные силы. Я так и живу. Я занимаюсь разными вещами — и анимацией, и большими фильмами, и маленькими зрительскими, и дебютами, и авторскими, и даже синефильскими проектами, которые вообще мало кому нужны, а мне вот нужны. Единственное — проекты сериалов меня пока не возбуждают. Понятно, что в рыночном смысле эта ниша овладела массами, и это прекрасно, если огромному количеству зрителей нравится в качестве досуга сидеть и смотреть по восемь серий. Но если чисто профессионально, то это все, как правило, за два часа легко можно рассказать. Горизонтальные сериалы имею в виду. Мне всегда хочется такое сократить. Хотя мы все равно выпускаем и сериалы, и анимационные сериалы. Поляна широкая, и все это мне интересно. Хочу ответить на этот вызов времени и сделать сериал «всех времен и народов». И большие фильмы мы все равно готовим. Их создание — настоящее приключение. А какие риски! Сергей Бодров — старший, когда мы делали «Монгола», привел простое, но убедительное сравнение. Мне оно понравилось, и я его иногда цитирую. Когда после обычного фильма ты делаешь фильм с большим бюджетом, это не то же самое, что пересесть из «запорожца» в «мерседес», это все равно как пересесть из автомобиля в истребитель. Это другой вид деятельности, а не просто кино, которое дороже.
Освободить время от прокатной компании — это да. Потому что времени всегда не хватает. Мы очень хорошо работаем с Sony. Прокат — очень азартный вид деятельности, смесь покера и преферанса, но нельзя объять необъятное. В свое время мы начали заниматься прокатом не потому, что я считал, что и тут все вопросы решу, а потому что прокатчики в начале 2000-х не были готовы прокатывать все фильмы кинокомпании «СТВ». То есть чего послаще — пожалуйста, а мне надо было всем моим фильмам дать жизнь, это была моя обязанность как продюсера. Не только произвести фильм, но и выпустить его в мир. И пришлось самому. И для меня это была немножко вынужденная история, хотя, повторюсь, очень увлекательная.
Какие сейчас планы на ближайшее время?
Кино по большей части делается спинным мозгом, некоторые говорят — животом. Можно, конечно, задать себе бизнес-стратегию, ориентированную только на зарабатывание денег. Например, будем делать комедии, они недорогие и хорошо идут. Или наладить системное производство ужастиков, мол, по три штуки в год будем выпускать, поставим это на поток. Это рабочая концепция. Но с моей — про сто цветов — она не совпадает. Вот, например, я всегда хотел делать сказки. Я еще в 1990-х годах сочинял их, в тетрадке что-то писал и понимал, что это невозможно, потому что это самый дорогой вид кино. Кино для детей — самое дорогое в мире. Потом с Сергеем Овчаровым примерно в 2003 году мы обсуждали проект «Конек-Горбунок». Но откуда тогда было взять 3 млн долларов, чтобы сделать сказку с графикой, которой еще практически не было, и с большими декорационными работами, даже навыки создания чего-то подобного к тому времени были потеряны. Вот время пришло, и недавно сделали-таки «Конька». И я с удовольствием еще какую-нибудь сказку сделаю. Но очень трудно написать хороший сценарий и очень трудно снять хороший фильм, особенно для детей. И это трудно везде — не только в России, но и в Америке, где производят до 800 фильмов в год, а мировую кассу из них делают фильмов 20−25. И это в Америке с ее колоссальным опытом и лучшими сотрудниками со всего мира. Поэтому иногда наше сильное желание сделать что-то шикарное наталкивается на то, что мозгов попросту не хватает. Вот это — проблема. Не хватает мозгов. Остальное не так сложно.
КОНКУРС «Кинотавр. Короткий метр»
НАСКОЛЬКО ВАШ ФИЛЬМ ПОЛУЧИЛСЯ ТАКИМ, КАКИМ ВЫ ЕГО ЗАДУМЫВАЛИ?
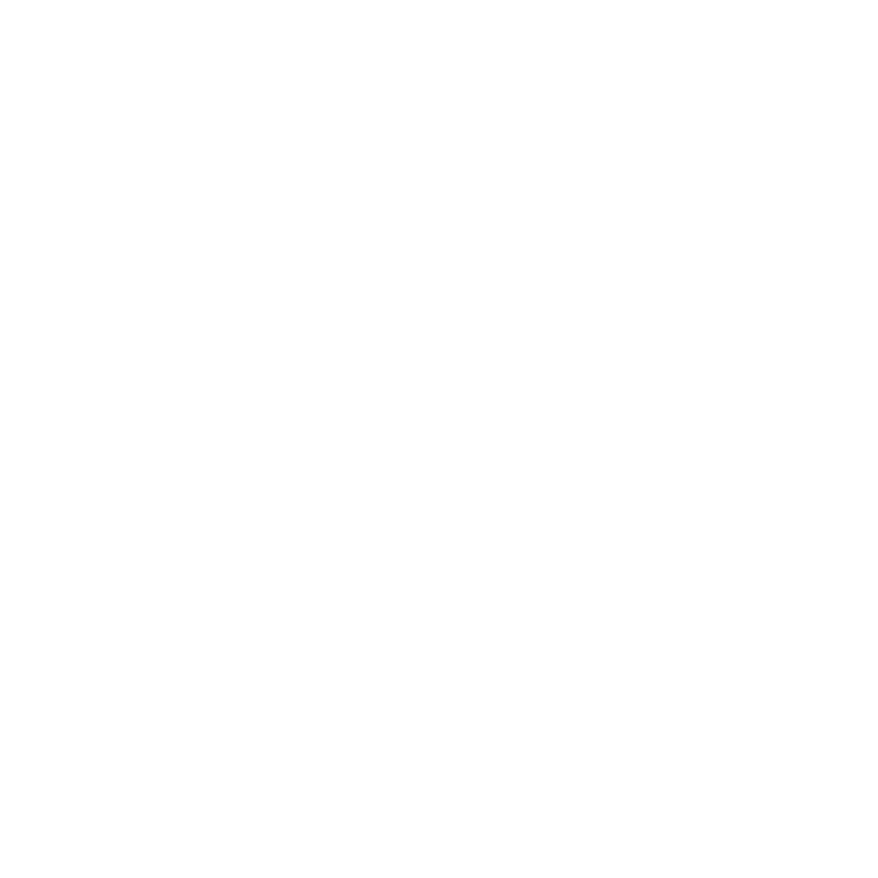
Саша Петров
«Ангел»
Я задумал фильм, который купят на благотворительном вечере Action! в декабре 2020 года за максимальную сумму. Так и получилось — фильм был куплен за 10,5 млн рублей.
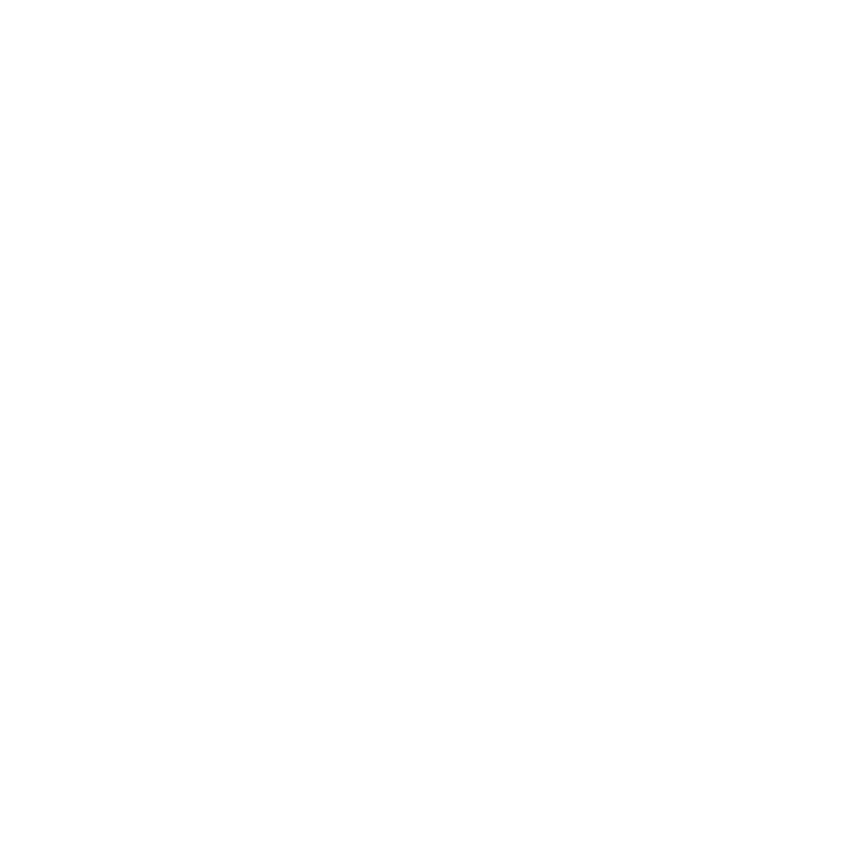
Светлана Самошина
«Хейт»
Этот короткий метр снят в рамках киноальманаха «Шестнадцать+» для линейки KION Originals. Я благодарна платформе KION за возможность сделать фильм по сценарию Александра Цыпкина. Это мой первый опыт работы с материалом, автором которого являюсь не я. Работать с текстом Александра было большим удовольствием. В целом фильм получился примерно таким, каким я его представила себе при первом прочтении текста.

Сергей Малкин
«Накипь»
С точки зрения передачи замысла фильма все получилось так, как я задумывал. Говорить конкретно по сценам сложнее, поскольку для большей достоверности я позволял актерам много импровизировать, и мы вместе находили интересные варианты уже на площадке.
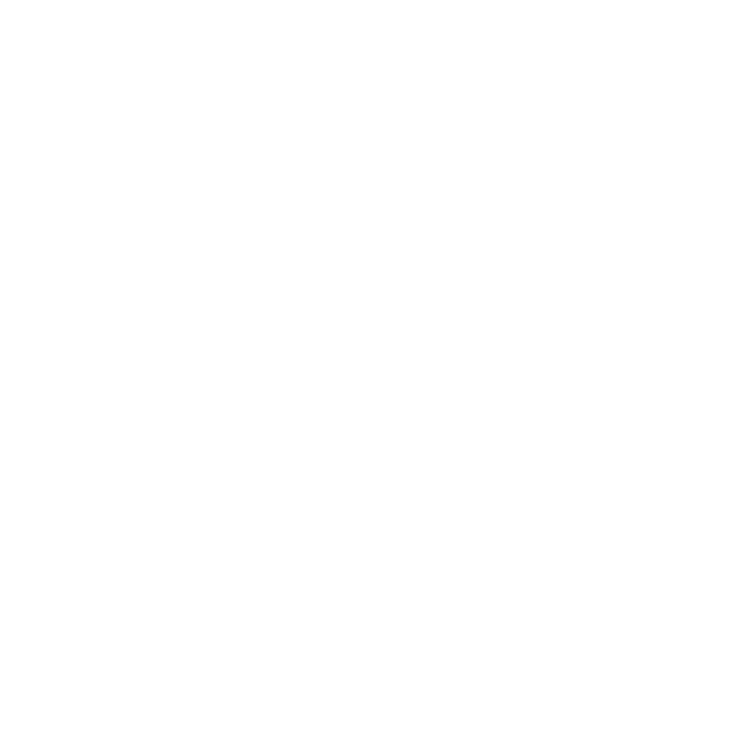
Денис Куклин
«Увлечение»
Бюджет фильма был небольшой, поэтому почти сразу стало понятно, что часть техники не потянуть и придется уложиться всего в одну смену. Это, конечно, ограничило в принятии некоторых творческих решений, но в этом не было ничего страшного. Если что-то и не удалось сделать так, как задумывалось изначально, то в итоге это получилось сделать по-другому, ничуть не хуже. Фильм прошел свой путь — потерял лишнее, обрел новое. И он получился. Получился интересным, смешным, захватывающим.

Роман Артемьев
«По грибы»
Сценарий написал быстро, актеры снялись те, которых я хотел, обстановка на площадке была позитивная, даже дождь начался только после того, как закончили съемки. И все в фильме получилось именно так, как я задумывал.
Денис Виленкин
Антон Фомочкин
«Скрытый космос»
Каким бы скучным ни показался этот ответ, но наша картина получилась именно такой, какой она была задумана. Я думаю, что великая радость заключается в том, чтобы донести идею от первоначальной задумки к снятому фильму в том виде, в котором она тебя посетила, пронеся ее через написание сценария, читки с актерами, мизансценирование и не всегда легкие погодные условия. И особенно прекрасно, когда твоя команда всячески этот процесс с тобой разделяет и тебя поддерживает.
Он получился другим, и это лучшее, что может произойти с любым сценарием.
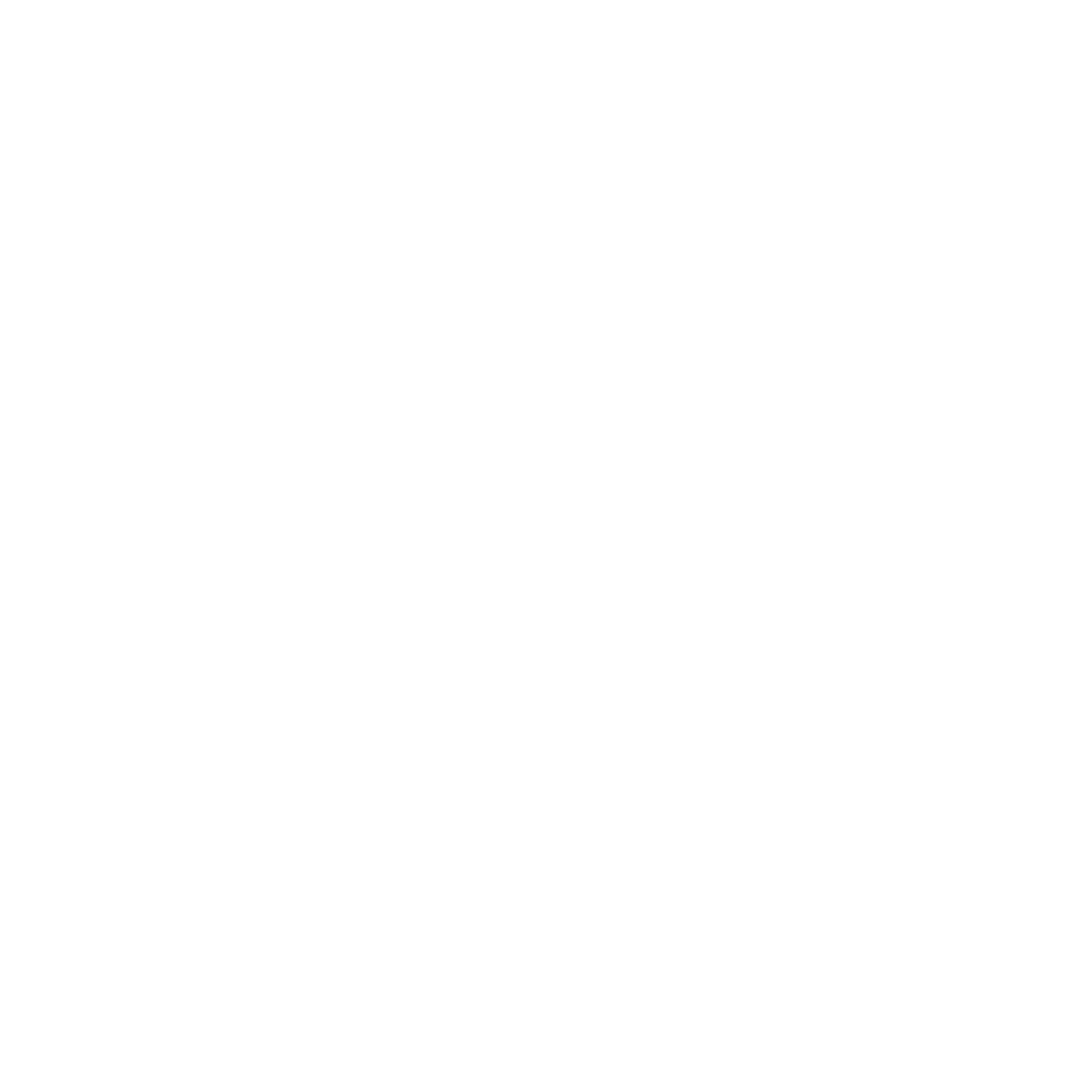
Денис Виленкин
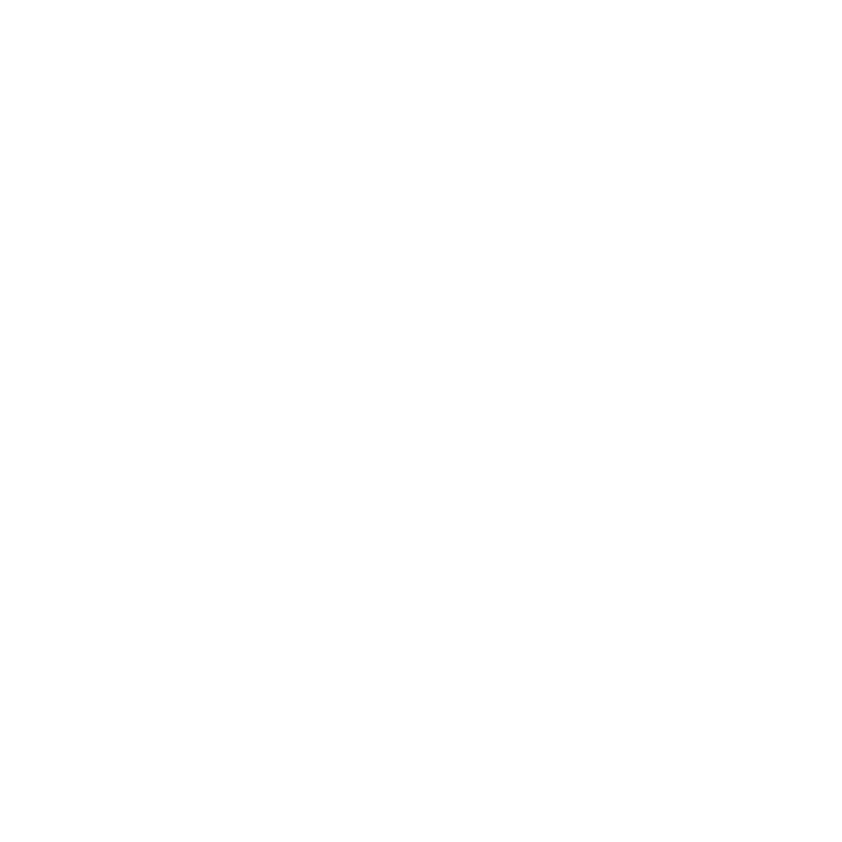
Антон Фомочкин
«Скрытый космос»
Денис Виленкин: Каким бы скучным ни показался этот ответ, но наша картина получилась именно такой, какой она была задумана. Я думаю, что великая радость заключается в том, чтобы донести идею от первоначальной задумки к снятому фильму в том виде, в котором она тебя посетила, пронеся ее через написание сценария, читки с актерами, мизансценирование и не всегда легкие погодные условия. И особенно прекрасно, когда твоя команда всячески этот процесс с тобой разделяет и тебя поддерживает.
Антон Фомочкин: Он получился другим, и это лучшее, что может произойти с любым сценарием.
Антон Фомочкин: Он получился другим, и это лучшее, что может произойти с любым сценарием.
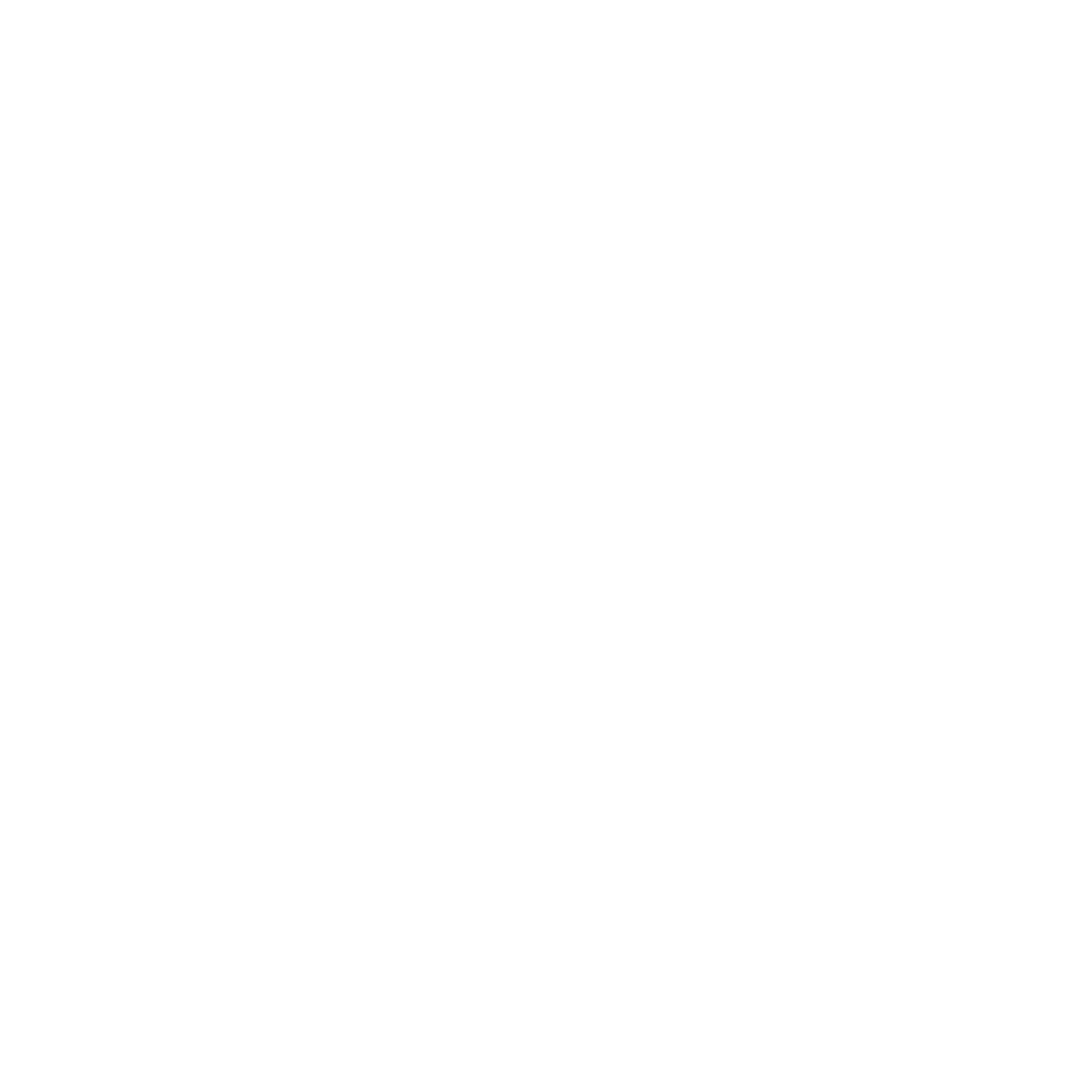
Владислав Иконников
«Уличное освещение»
Фильм рождался и несколько раз трансформировался, поэтому трудно сказать, насколько он отличается от первоначальной задумки. Мы с командой встретились с реалиями городка Златоуст и попытались подчеркнуть его красоту и уникальную природу. За время скаута вычеркнули несколько сцен, чтобы случайно не снять полный метр, а на посте — еще парочку. Фильм приобрел жанр. Это сказка и драма, как я себе объяснил. Уникальность нашего актера и магия, которую приобретал фильм во время съемок, вынуждали переписывать сцены в ночь перед съемкой. Поэтому, конечно же, фильм получился другим, но точно не хуже. В изначальной задумке был только скелет. Мы с командой нарастили мясо, связки и кожу, а на монтаже постарались соединить это все так, чтобы дать фильму жизнь.
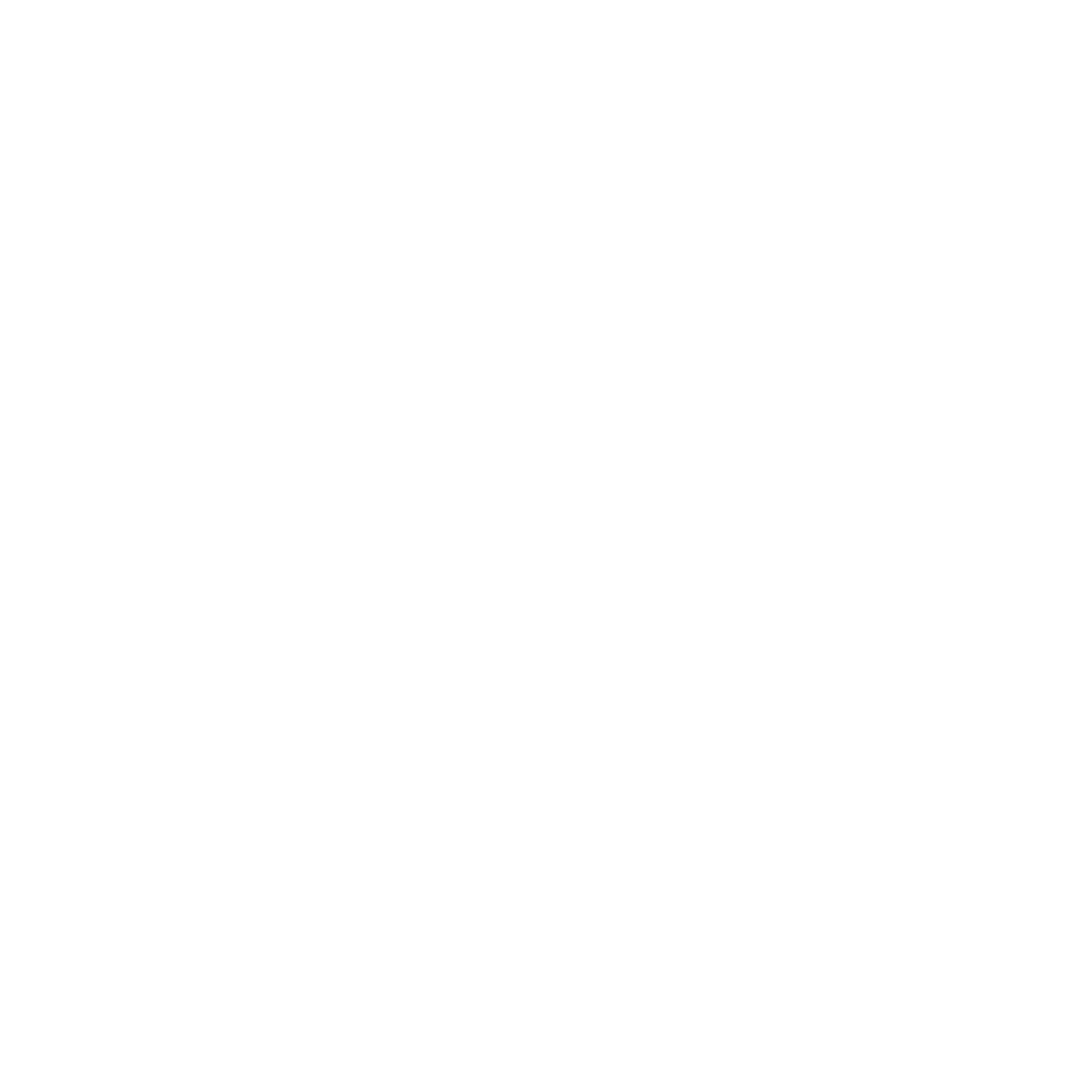
Данил Иванов
«Холодно»
Фантастика, что он вообще получился! А каким я его задумывал, я уже подзабыл.
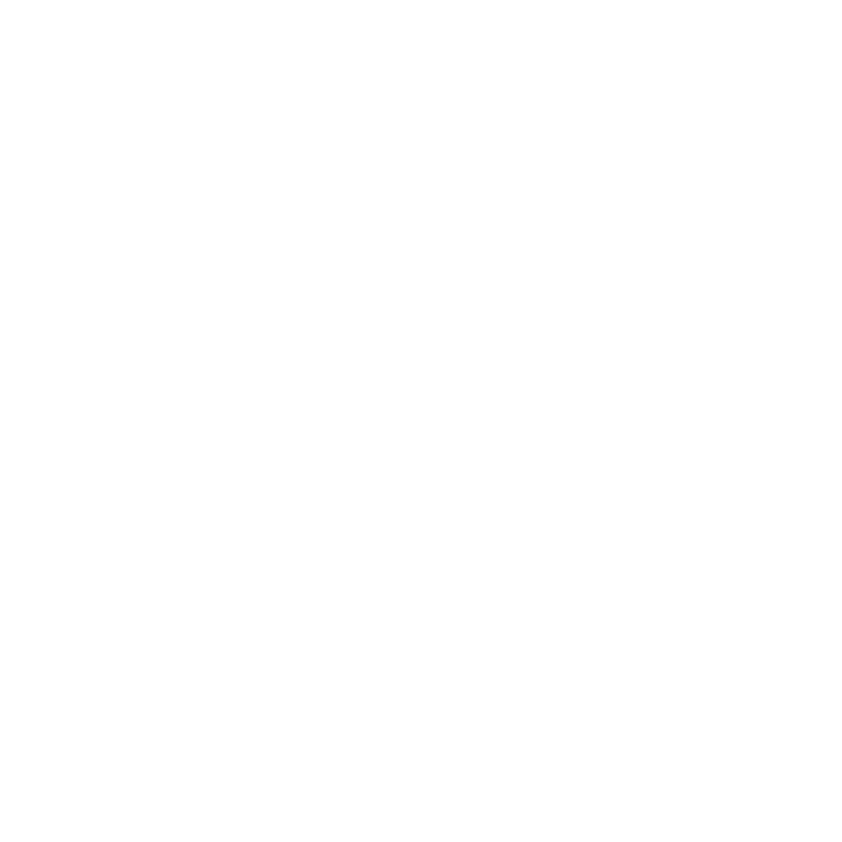
Главный редактор, руководитель промо-службы фестиваля «Кинотавр» Дарья Кровякова / выпускающий редактор Михаил Володин / редакторы: Андрей Захарьев, Александр Пасюгин / фотографы: Геннадий Авраменко, Максим Кашин, Максим Ли / дизайнер-верстальщик Алена Алешина / корректор Наталья Илюшина / Адрес редакции: ГК «Жемчужина», этаж С.
МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ МОЖЕТ НЕ СОВПАДАТЬ С МНЕНИЕМ СПИКЕРОВ.
МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ МОЖЕТ НЕ СОВПАДАТЬ С МНЕНИЕМ СПИКЕРОВ.